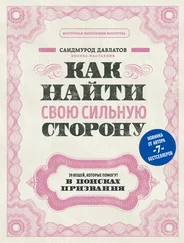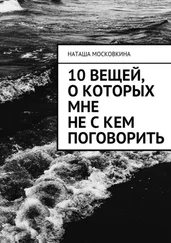Кое-какие признаки, несомненно, налицо. Попытки связать воедино всю совокупность отдельных мелких факторов чем дальше, тем больше создают впечатление, что наши теории пола подобны типичному куновскому «скандалу» — Птолемеевой системе мира с ее эпициклами звезд и планет. Древние греки исходили из постулата, что все эти небесные тела вращаются вокруг Земли. По мере того как совершенствовалась техника наблюдений, астрономам приходилось регулярно проверять и перепроверять заданную модель небесной механики, громоздя одну поправку на другую. Чтобы конструкция не рухнула целиком, требовалась масса усилий; достаточно сказать, что вся астрономическая наука в ту эпоху представляла собой в основном текущую корректировку аномалий, которые непрерывно обнаруживались в Птолемеевой системе.
В начале шестнадцатого столетия астроном Николай Коперник осознал, что собратья-птолемеисты родили химеру, и приступил к поискам лучшего решения. Как только вышел в свет его труд «Об обращении небесных сфер», все сразу встало на свои места. Движения звезд и планет обрели простую безукоризненную логику — стоило лишь признать, что Земля и соседние планеты вращаются вокруг Солнца.
Не являются ли наши теории пола ересью, подобной геоцентризму? Если это так, то возможно ли угадать, откуда придет «коперниканская» революция?
Быть может, пропущенная, согласно Джону Мейнарду Смиту, «сущностная характеристика» — взаимосвязь пола со смертью (см. предыдущую главу). Если фактор смерти или, по крайней мере, старения клеток обусловил половое размножение, то двойная цена пола, вполне вероятно, может покрываться (а возможно, и перекрываться с лихвой) выгодой от этого фактора: механизмом выработки АТФ в ядре каждой клетки. Без него мы, эукариоты, не смогли бы завоевать мир. Давайте примем это допущение и посмотрим, к чему оно ведет.
Если половое размножение — надстройка, побочный продукт смерти, тогда мы вправе отбросить азы биологической науки, согласно коим весь мир природы зиждется на беспощадной борьбе за возможность передать потомству свои гены, непременно за счет вытеснения чужих и с помощью наилучшего из доступных партнеров (если таковой необходим для продления рода). Позывы эти, видимо, не столь мощны, как принято считать, и умеряются другими целями — например, выживанием индивида. Если половое воспроизводство у эукариот развилось в результате эволюции смерти, то в иерархии инстинктов оно неизбежно будет уступать самосохранению. А мы знаем, что стремление жить у большинства (хотя и не у всех) существ, размножающихся таким путем, действует сильней, чем тяга оставить потомство.
Представим себе животных, образующих устойчивые социальные группы или семьи. (Здесь воленс-ноленс приходится говорить о высших формах, у которых, кстати, и половое размножение практически лишено альтернатив.) Они обладают половым инстинктом и демонстрируют сексуальное поведение, но наряду с этим адаптированы в своей группе: выживание особей — предпосылка дифференциации полов в данном подходе — зависит от благополучия группы в целом. Что мы наблюдаем в этом случае?
Во-первых, усложненные формы сексуального поведения. Каковы бы ни были причины их формирования, они укрепляют связи меж индивидами через положительные эмоции и ощущения, по крайней мере у высших животных. Во-вторых, размножение как таковое. Но помимо этого — еще и усилия, направленные на поддержание целостности группы, чтобы обеспечить выживание каждого ее члена. По предположению Джона Мейнарда Смита, если самец вносит серьезный вклад в воспроизводство, отдавая силы добыванию пищи и защите молодняка, то его подруга реально может вырастить вдвое больше потомства, чем любая «амазонка», тем самым вопрос о цене пола снимается автоматически. Но возможно, групповая динамика способна не просто окупать затраты?
На этот вопрос трудно ответить однозначно, но некоторые наблюдения позволяют сделать интересные выводы. Двуполые организмы действительно часто образуют сообщества, и, хотя для каждой особи естественно соблюдать прежде всего собственный «насущный интерес», понять природу такового удастся, лишь рассматривая всю группу как целое. Скажем, попытка спариться с единственной самкой в группе явно невыгодна самцу низкого ранга: если соперники намного сильней, подобная дерзость может даже стоить ему жизни.
Ситуация в чем-то сродни известному в математике решению «проблемы прочной семьи». Представьте вечеринку, где все участники желают найти себе пару. Если каждый мужчина будет согласен только на самую привлекательную из женщин — и наоборот, — то почти для всех затея кончится плачевно. В 1962 году двое математиков рассчитали вариант, в котором умеренная готовность к общему компромиссу может принести удовлетворение практически всем и каждому. Дэвид Гейл и Ллойд Стауэлл Шепли показали, что если все «выстроятся по ранжиру» согласно желательности потенциальных партнеров, то возможно достичь устойчивого равновесия. Их матрица сочетает условных людей в таких комбинациях, что невозможно найти мужчину и женщину из разных пар, которые охотней сошлись бы друг с другом, нежели остались с прежними партнерами. Это, конечно, мало походит на идеал для большинства людей, но дает вполне пристойные результаты с точки зрения интересов общества.
Читать дальше
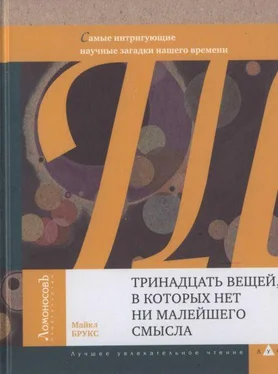



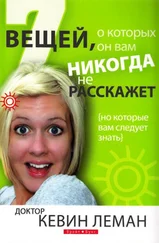


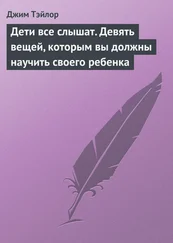
![Саидмурод Давлатов - Как найти свою сильную сторону [39 вещей, которые помогут в поисках призвания] [litres]](/books/389503/saidmurod-davlatov-kak-najti-svoyu-silnuyu-storonu-thumb.webp)