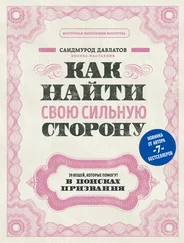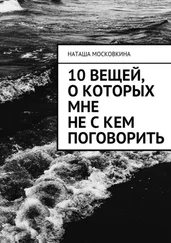Вирусы известны науке немногим более ста лет. В конце девятнадцатого века российское правительство послало биолога Дмитрия Ивановского выяснить, что губит посевы табака в Крыму. Что бы это ни было, оно беспрепятственно проскакивало фарфоровые фильтры, через которые лаборанты просеивали микробные культуры. В 1892 году Ивановский опубликовал статью с описанием обнаруженной им новой разновидности мельчайших болезнетворных микроорганизмов. Шесть лет спустя голландский микробиолог Мартин Бейеринк дал находке окончательное название: вирус. На древней латыни это слово означало липкую жидкость или яд.
Хотя первыми вирусный след взяли двое европейцев, решающий выстрел в погоне принадлежал американцу. В 1946 году Уэнделл Мередит Стэнли получил Нобелевскую премию за выделение в кристаллическом виде вируса табачной мозаики. Любопытно, что присудили ее в области химии. Хотя вирусы неразрывно связаны с живыми системами, они почти неизменно рассматривались не как особая форма жизни, но как обычные химические соединения — безжалостные смертоносные механизмы, одержимые размножением, однако неспособные к нему сами по себе. Существование вирусов невозможно без хозяев-носителей — живых клеток, производящих белки и энергию для своих паразитов. Вирусы — аномалия эволюции, абсолютные разрушители вроде жизнеподобных, но бездушных роботов из фильма «Терминатор». Они не часть живого мира.
Одно лишь нарушает традиционные представления; это нечто сейчас находится в лабораторной морозильной камере в Марселе.
Марсель, древнейший город Франции, в наше время превратился в Мекку эпидемиологов. Вероятно, из-за своего уникального исторического опыта: когда в 600 году до нашей эры финикийцы заложили в здешней бухте порт Массалию, эта гавань связала через Средиземное море запад Европы с Северной Африкой и Ближним Востоком, заодно открыв дорогу «черной смерти». Первые известные случаи бубонной чумы в Марселе отмечены в 543 году от Рождества Христова.
Чума — еще один пример изощренной адаптации микроорганизмов. Размножаясь на первичном хозяине, блохе, чумные палочки закупоривают ее пищеварительный тракт. Насекомое не может насытиться, сколько ни выпьет крови из собственного носителя — обычно грызуна, и сосет буквально как очумелое, безудержно меняя хозяев, пока не погибнет. Кровь же, достигнув бактериальной пробки в зобу, отрыгивается вместе с палочками, которыми блохи заражают всё новых животных и людей. Эпидемия распространяется без границ.
В 1346 году судно с Востока снова завезло в город чуму; количество жертв той эпидемии во всей Европе оценивают в 25 миллионов. Но память у людей коротка, и движет ими чаще алчность, нежели здравый рассудок. Когда в 1720 году в Марселе пришвартовался корабль с грузом тканей и хлопка из Леванта, а также с несколькими зараженными на борту, портовая администрация объявила карантин, но коммерсанты желали приступить к торговле немедля. Под их нажимом карантин был отменен; так началась Марсельская чума. За два года от нее умерли почти пятьдесят тысяч человек — половина городского населения. Не меньше народу погибло и в окрестностях к северу от Марселя. Неудивительно, что инфекционисты на медицинском факультете Средиземноморского университета Экс — Марсель II имеют репутацию самых знающих в мире.
Президента этого университета зовут Дидье Рауль. Его послужной список читается как каталог научных дисциплин, которые особенно хороши тем, что постигать их пришлось не нам: ученые степени по бактериологии, вирусологии и паразитологии. В дни, когда весь остальной мир строил планы на заключительный сочельник уходящего тысячелетия, доктор Рауль залезал в рот скелетам, захороненным в четырнадцатом веке, и брал с уцелевших зубов соскобы на ДНК, пытаясь установить, убила ли этих людей чумная палочка или смертоносный вирус наподобие лихорадки Эбола. Рауль к любым возбудителям инфекций питает неудержимую научную страсть. И когда Тимоти Роуботам предложил ему исследовать сублимированную бактериальную культуру, ускользавшую от всех попыток классификации, он согласился с величайшей охотой. Быть может, потому, что не знал тогда, с чем связывается.
Первым делом образец попал под микроскоп. Роуботам не ошибся: существо несомненно походило на бактерию. Затем оно подверглось стандартному тесту по методу Грама: мазки, в которых предполагается наличие микробов, довольно сложным способом окрашиваются фуксином. Любые бактерии приобретают ярко-красный, темно-синий или фиолетовый оттенок, другие простейшие остаются бледно-розовыми. Образец Рауля окрасился в пурпур.
Читать дальше
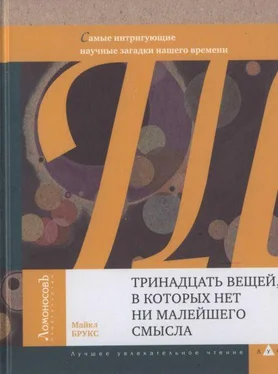



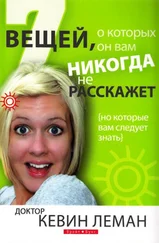


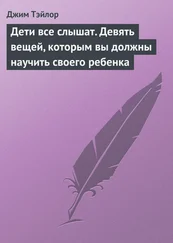
![Саидмурод Давлатов - Как найти свою сильную сторону [39 вещей, которые помогут в поисках призвания] [litres]](/books/389503/saidmurod-davlatov-kak-najti-svoyu-silnuyu-storonu-thumb.webp)