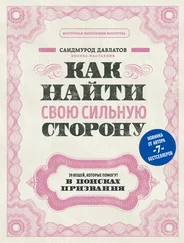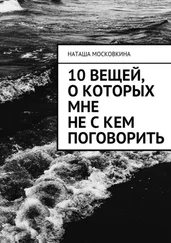И что теперь думать о сигнале «Вау!»? Неясно. Пришел он из пустынных областей Вселенной, где нет ни малейших предпосылок для развития жизни земного типа. Потому самое умное, что мы можем предложить: сигнал был отправлен с летящего звездолета. Возможно, его испустил радиомаяк, на минуту сбившись с азимута, когда инопланетяне путешествовали по космосу. Но отсюда уже прямая дорожка в фантастическую беллетристику.
Пример разумного подхода можно найти на сайте Института SETI, где в одном ряду с сигналом «Вау!» упомянута другая аномалия. «Холодный ядерный синтез не вызывает доверия, потому что никто не смог повторить его у себя в лаборатории. Точно так же внеземные сигналы могут считаться достоверными лишь в том случае, если они наблюдались неоднократно». Одним словом, мы не принимаем на веру единичный факт, а ищем новые.
И что же, разве ищем? В общем-то, нет. Охота на инопланетян остается уделом горстки энтузиастов. Учитывая мнение ученых о ставках в этой игре, такое не назовешь иначе как скандалом. Если догадка о природе сигнала «Вау!» верна, перед нами классическая аномалия в духе Томаса Куна: упорно занимаясь ею, мы сможем радикально изменить наши представления о космосе и собственном месте в нем. То была бы научная революция под стать коперниковской. Но пока, как мы видим, академические верхи игнорируют ситуацию.
К счастью, есть шанс прояснить природу жизни и нашего места на ее иерархической лестнице, не удаляясь в глубины космоса. Если бы к Мартину Рису прислушались и программа SETI получила хотя бы скромное финансирование, это помогло бы нам исследовать самые дальние пределы космоса в поисках глубинной природы жизни. Но оказывается, не меньше света на проблему способна пролить другая аномалия, обнаруженная в буквальном смысле у нас под носом. Это существо (если можно его так назвать) заполнило своим микроскопическим телом целую пропасть между живой и неживой природой — притом совершенно немыслимым образом, а анализ его генома заставляет переписывать всю историю жизни на Земле.
Немалое достижение для скромного вируса.
У жизни на Земле непредсказуемое прошлое
Пожалейте пропащие души турагентов и гидов, вынужденных рекламировать публике прелести йоркширского города Брэдфорда. Там с первого шага темнеет в глазах от угрюмых заводских корпусов — «чертовых мельниц» промышленной революции. На втором шаге настроение окончательно портится от мысли, что именно здесь проживал Йоркширский Потрошитель, печально знаменитый в 1970–1980-е годы серийный убийца проституток. Неподалеку отсюда родились и жили сестры Бронте, но земные пути писательниц были недолги и не слишком счастливы. Эмили скончалась от туберкулеза в тридцатилетием возрасте, через год после выхода в свет романа «Грозовой перевал». Шарлотта, сочинившая «Джейн Эйр», умерла в тридцать девять на раннем сроке беременности. Наконец, сегодня, по крайней мере в Великобритании, этот город известен более всего как очаг расовых беспорядков, разбушевавшихся летом 2001 года.
Вместе с тем Брэдфорду принадлежит как минимум один важный вклад в развитие естественных наук. В 1992 году сотруднику Лабораторной службы общественного здравоохранения, микробиологу Тимоти Роуботаму поручили найти рассадник особенно злостной вспышки пневмонии. В ходе исследований он отправил на анализ воду из градирни местной больницы. Получив образцы, Роуботам обнаружил в них амебную фауну. Сама по себе вещь обычная, однако эти амебы оказались заражены бактерией, которую он не смог с ходу определить. Роуботам дал ей условное название по самому заурядному из ученых шаблонов — «брэдфордский кокк». В остальном находка не вызвала у него особого интереса. Борьба с эпидемией не оставляла времени, так что биолог сунул образцы в заморозку и занялся неотложными делами.
Одиннадцать лет спустя выяснилось, что Роуботам изловил монстра. Это, безусловно, самый большой вирус из всех известных науке. Он просто огромен — раз в тридцать больше риновируса, вызывающего простудные заболевания. И вдобавок с неимоверным трудом поддается уничтожению. Большинство вирусов разрушается при высоких температурах или в концентрированной щелочной среде либо под действием ультразвука — но только не этот. Однако по-настоящему ученых озадачило совсем другое. В итоге самую важную роль вирус-переросток сыграл не в системе здравоохранения, а в летописи земной жизни.
Читать дальше
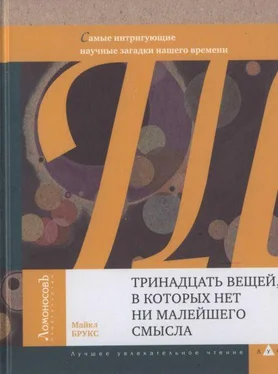



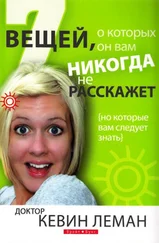


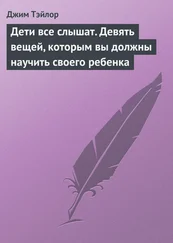
![Саидмурод Давлатов - Как найти свою сильную сторону [39 вещей, которые помогут в поисках призвания] [litres]](/books/389503/saidmurod-davlatov-kak-najti-svoyu-silnuyu-storonu-thumb.webp)