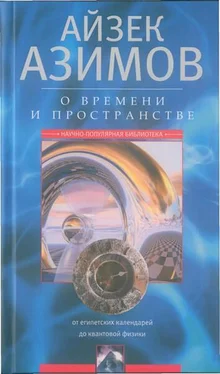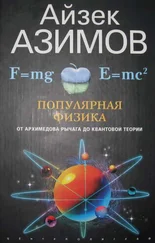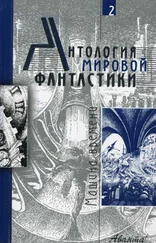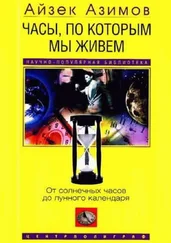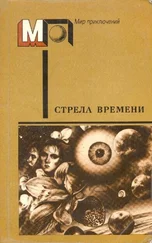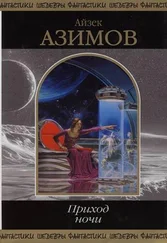Если наш метафорический катализатор каменщик, то платина каменщик, плотно упакованный в смирительную рубашку.
Значит, мы снова вернулись к волшебству? К действию молекул на расстоянии?
Химики продолжали искать более прозаическое объяснение. У них возникло подозрение, что инертность платины является кажущейся. Атомы плагины «держатся друг за друга» со всех сторон; их, судя по всему, это вполне устраивает, поэтому в глубоких слоях платина не взаимодействует с водородом и кислородом, как и с другими веществами.
Но на поверхности металла атомы располагаются рядом с воздухом, возле них уже нет других атомов платины со всех сторон, поэтому они хватают недостающие атомы из тех, что оказались вблизи, например, водород. Таким образом, на поверхности металла образуется пленка толщиной в 1 молекулу. Она, разумеется, остается невидимой, и мы продолжаем любоваться гладкой, блестящей поверхностью платины, которая на вид совершенно инертна.
Являясь частью поверхностной пленки, кислород и водород реагируют более активно, чем в состоянии газа. Если предположить, что при реакции кислорода и водорода на поверхности платины образуется молекула воды, она будет удерживаться слабее, чем молекула кислорода. В тог момент, когда молекула кислорода ударяется в этот участок поверхности, она заменит молекулу воды в пленке. И сразу появится шанс образования еще одной молекулы воды, и т. д.
Таким образом, платина действительно выступает в роли посредника, образуя на поверхности мономолекулярную газообразную пленку.
Также нетрудно показать, как платиновый катализатор может быть испорчен. Представьте, что существуют молекулы, к которым атомы платины будут «прижиматься» сильнее, чем к кислороду. Такие молекулы заместят кислород в поверхностной пленке, но сами не будут вытеснены атмосферными газами. Они останутся на поверхности платины, и каталитическое действие с участием водорода и кислорода прекратится.
Поскольку для образования поверхностного слоя толщиной в 1 молекулу затрачивается очень мало вещества (при разумных размерах поверхности), катализатор довольно быстро портят примеси, которые неизменно присутствуют в рабочей смеси газов.
Если приведенные выше рассуждения верны, то увеличение площади поверхности катализатора при его неизменном весе одновременно повысит его эффективность. Поэтому платиновый порошок, имеющий обширный поверхностный слой, является намного более эффективным катализатором, чем кусок платины того же веса. Значит, мы можем говорить о поверхностном катализаторе.
Но было сказано о поверхностной пленке, которая ускоряет процесс взаимодействия водорода и кислорода. Хотелось бы ликвидировать любые намеки на волшебство.
Для этого следует попять, чего катализатор сделать не может.
В 1870 году американский физик Джозайя Уиллард Гиббс разработал законы термодинамики применительно к химическим реакциям. Он показал, что существует некое количество гак называемой «свободной энергии», которое всегда уменьшается в спонтанной химической реакции, то есть в реакции, которая протекает без поступления энергии.
Так, после начала реакции соединения во/юрода и кислорода она продолжается до тех пор, пока имеются газы — реагенты, а в результате образуется вода. Мы объясняем это тем, что свободная энергия воды меньше, чем свободная энергия газовой смеси. И реакцию взаимодействия водорода и кислорода с образованием воды можно сравнить со скольжением вниз по «энергетическому склону».
Но если все сказанное верно, почему водород и кислород не реагируют между собой, находясь в состоянии газовой смеси? Почему они так долго медлят на верхней ступеньке энергетической лестницы и вступают в реакцию только после нагрева?
Очевидно, что до начала реакции молекул кислорода и водорода, каждая из которых состоит из двух атомов, одна из них должна быть разрушена на отдельные атомы. А для этого необходима дополнительная энергия. Эго и есть верхушка энергетического склона, по которому еще предстоит спуститься. Своего рода «энергетический пригорок». Количество энергии, необходимое для начала химической реакции, называется энергией активации. Эту концепцию впервые выдвинул в 1889 году шведский химик Сванте Август Аррениус.
Когда молекулы кислорода и водорода сталкиваются при обычной температуре, только незначительное их число обладает достаточной энергией, чтобы при столкновении разбиться. Они вступают в реакцию, в результате чего выделяется энергия для расщепления дополнительных молекул. Но дело в том, что одновременно выделяется такое маленькое количество энергии, что она рассеивается раньше, чем используется. В результате водород и кислород при комнатной температуре не реагируют между собой.
Читать дальше