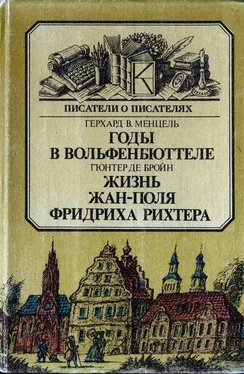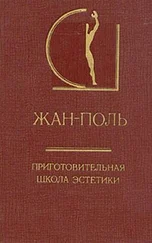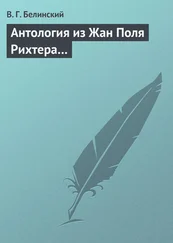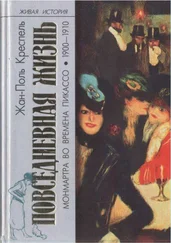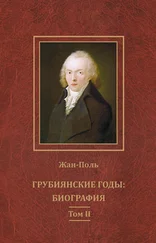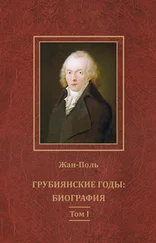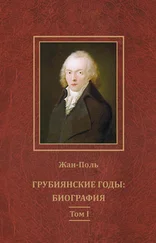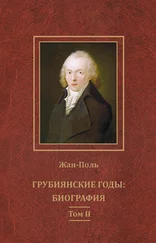Меняя в который раз университет, он так описывает свой уход: «В воскресенье… утром в пять часов я вышел из Эрланга, как Дон Кихот. Коричневый жилет и брюки, которые до сих пор мода запрещала мне носить, белый сюртук, носить который я стыдился уже в Гофе, в правом кармане грифельная доска, бумага (это письмо — часть ее), записи, план вместе с необходимыми выписками о Гёттингене, носовой платок, красные перчатки, в левом кармане ботинки со шнурками, коробка сургуча, печать, гребенка, бритва etc., под левой рукой зонт — больше для того, чтобы спрятать в нем узел с одним носовым платком, двумя рубашками, галстуком, парой носков и ночным колпаком, чем самому прятаться от дождя…» Пьяные подмастерья, поющие, меняя в зависимости от настроения мотив: «Это, это, это и это, это тягостный конец» (чем поставляют исследователям народных песен старейший вариант этой песни), и «католические фигурки» на дороге, изображающие ужасные страдания «превосходного человека и правдолюбивого мужа», утешают бедного студента в его собственной участи.
В Берлине он присутствует при казни вора и с трудом скрывает свое потрясение. Хотя он и утверждает, что испытывал интерес медика к телу, подвергнутому колесованию, он яростно спорит с офицерами о бесчеловечности подобной казни, а злорадные слова зевак долго не выходят у него из головы.
Эта вторая поездка в Берлин интересна еще и тем, что дает представление об отношениях между издателем и автором, — отношениях, основанных на полном произволе. Ведь Герман едет в Берлин, чтобы выколотить у издателя Декера гонорар за свою вторую книгу, едет на сей раз из Лейпциг-Ойтрича, в почтовой карете, правда безбилетным пассажиром, то есть платя самому кучеру полцены. (Официальная стоимость проезда из Лейпцига в Берлин летом — 3 талера 23 гроша, зимой — 4 талера 10 грошей.) Хотя оба при этом многим рискуют (кучер — заключением в крепость, пассажир — 10 рейхсталерами), этот обман почты — дело общепринятое. В карете, доставляющей Германа в Берлин, едут три настоящих пассажира и семь безбилетных. Когда дорога идет в гору, безбилетники выходят первыми. Выезжает Герман в субботу вечером, прибывает на место в понедельник в полдень — на полдня раньше срока благодаря хорошей погоде.
Во вторник он спешит на квартиру и в контору Декера на Брюдерштрассе, но застает там лишь бухгалтера, который-де ничего не знает. Господин Декер, должно быть, в саду около Хольцмаркта. Там он действительно его находит, тот много говорит о своей поездке в Швейцарию, но ничего — о гонораре Германа. Пусть он в одиннадцать часов придет к нему на квартиру. Он приходит, но Декера опять нет дома: тот в гостях, а на следующий день уезжает в деревню. Когда Герман настаивает на встрече вечером, ему назначают прийти в шесть часов вечера; Декера он не застает, зато для него есть письмо, в котором ему предлагается мизерный гонорар — в противном случае он может забрать свою рукопись. Получив аванс, едва, покрывающий дорожные расходы, бедный автор в конце концов уезжает, «в высшей степени раздосадованный», как он пишет, на самом же деле — в отчаянии.
«Я мечтаю стать когда-нибудь полезным миру и близким, но теперь, когда мне надо накопить знаний и заложить основу всему, мне помогают так плохо, что я едва могу просуществовать», — жалуется он, но и обвиняет, обнаруживая более глубокое понимание дел: «Годись я в солдаты, я бы продался какому-нибудь князю, чьим подданным не являюсь, иначе пришлось бы стать им бесплатно, и повернулся бы спиной к стране, где мои бедные родители помогают умножать доходы, за счет которых самые богатые, свободные от налогов сынки чиновников получают самые большие блага». «Кто накормит меня, кто вознаградит меня за все телесные и душевные муки, что я претерпел ради блага других?.. Я не могу изучать даже того, что помогло бы мне спасти людей от чумы, подвергая себя опасности заболеть ею… И пусть я буду дитя природы, которое беспрепятственно может жрать желуди и корни, лишь бы мне дана была свобода да небо, естественной красотой которого я мог бы любоваться».
Это он написал в 1788 году. Можно себе представить, как должна была всколыхнуть его через год революция во Франции. Но в его письмах о ней ни слова. Переворот, о котором он пишет, должен произойти… в философии. Под впечатлением лекций по физике великого Лихтенберга он надеется на полную перемену в философии. Все предрассудки стариков должны быть отменены, все веками боготворимые авторитеты — свергнуты, для того чтобы возникла подлинно «гетеродоксальная и непреложная философия», опирающаяся на «знание природы и ее законов».
Читать дальше