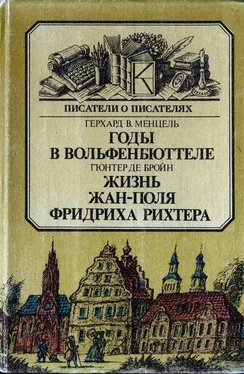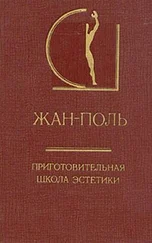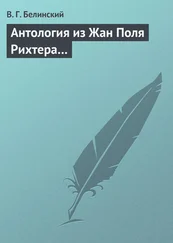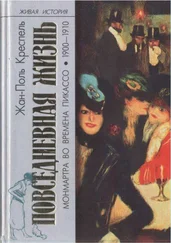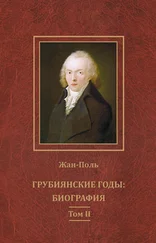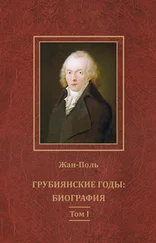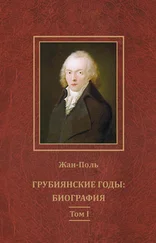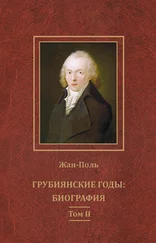Эта пара в любовном объятии не мужчина и женщина, а Жан-Поль и Иоганн Бернгард Герман, как они изображены (к счастью, дальше не в таком духе) в наброске «Биографические забавы». Идя из «Геспера», Жан-Поль видит в парковой беседке скелет. В черепе он находит свои письма и слышит позади себя голос: «Это мой скелет». Оборачивается — и заключает в объятия своего мертвого возлюбленного, который должен воскреснуть в его творении. «Это был мой Герман».
Потеря друга, который скончался в двадцать девять лет, потрясла Жан-Поля больше, чем смерть Эртеля и брата. Это потрясение дало выход его творческой силе: чувство дружбы, очень похожей на любовь, которому положила конец смерть. Эта дружба и эта смерть снова и снова требуют воплощения. Воспоминание о Германе — источник, из которого он черпает материал для персонажей многих романов: это Лейбгебер, Шоппе, Вульт, Гианоццо — несгибаемые, не приспосабливающиеся к обстоятельствам.

Расточительно и подробно живописуется в романах блаженство дружбы. Гармония чувств и духа столь же неотъемлемые составные ее, как и проявления телесной нежности: поцелуи и объятия. «Их закружил и сблизил вихрь любви, они открыли объятия друг другу и беззвучно упали на землю, их души сроднились, их тела замерли, поток любви и блаженства вздымался над ними…» — написано, например, в «Геспере», и наивность, с какой он применяет словарь любви к чувству дружбы, показывает, что эти отношения не носили гомосексуального характера (хотя изначально, возможно, и были так окрашены). Это язык эпохи сентиментализма, которая почитает и культивирует чувства как бюргерскую добродетель и доводит их изображение до границ того, что можно выразить словами (и вынести).
И все-таки Жан-Поль, это двойное воплощение чувствительности и трезвости, догадывается об эротической стороне культа дружбы, которая, вероятно, играла определенную роль в его отношении к внутренне изменчивому и разбросанному, но внешне очень красивому Герману. Он хотел бы когда-нибудь, объясняет он другу Эртелю, «обручиться» с Германом и намекает при этом на «обычай морлакков, у которых двое друзей по-настоящему сходятся и их брак торжественно освящается». Он напоминает и о греках, у которых «дружба мужчин часто была, собственно, браком», и затем продолжает: «Все наши ощущения должны опираться на что-то телесное, и огонь греческой дружбы у нас встречался бы еще чаще, если бы его питала и телесная красота… То, что это пламя в конце концов исчерпывается чувственной щекоткой и дрожью, отвратит лишь того, кто считает плотские наслаждения чем-то низменным».
Из переписки видно, что письма Рихтера по тону всегда на несколько градусов теплее. Таких фраз, как: «Мне нужно написать тебе еще сто вещей. Сто первая та, что никого я так сильно не люблю, как тебя и себя», у Германа нет. В то время как Рихтер, подобно влюбленному, изливает свои чувства, Герман прячет свои за дерзостью и цинизмом. Его «скабрезная манера», как с испугом и весело называет это Рихтер, диктуется не удовольствием от грубости, а потребностью легкоранимой души в самозащите. Желанием заглушить потрясения.
«Ты знаешь, что в отношении женщин… я еще так же чист и невинен, как двухмесячный ребенок… — пишет двадцатисемилетний студент медицинского факультета из Эрлангена, после того как он впервые (заплатив за это драгоценный гульден) прошел курс практического акушерства. — Я все еще несведущий человек, за которого ты сам обычно выдаешь себя и которым ты, может быть, действительно и являешься… Короче говоря, заметь себе день, когда… я впервые всунул свой правый указательный палец в живое влагалище. Видел бы ты, каково мне было, как охотно от стыда и отвращения я отсрочил бы все это, однако не мог же я дать заметить сокурсникам свое полное неведение в таких делах, но что толку; с пылающим лицом я отважился, и мне все удалось лучше, чем я мог бы желать, окажись у меня намного больше времени. Что же будет со мной, если мне когда-нибудь придется коснуться жены одиннадцатым пальцем».
Но до этого не дошло. Вечно обремененному долгами студенту нечего и думать о женитьбе. Бедность и вызванный ею стыд не позволяют ему приблизиться к девушке даже в воображении. Его сексуальный голод — следствие голода материального, и, поскольку последний никогда не уменьшается, никогда не проходит и первый. А превратить, подобно Рихтеру, нужду в добродетель он не умеет. В то время как его друг, полностью поглощенный своей высокой целью, умеет подняться над бедностью, Герман погибает от нее. Когда читаешь полные сетований и обвинений, стыда, гордости и отчаяния письма этого отстаивающего свою независимость человека, его смерть кажется добровольной — причем не только из-за высказанных в этих письмах мыслей о самоубийстве. Если подумать, что с ним стало, пишет он за год до смерти — «человеческое тело, которое разрушено ипохондрией и превратностями судьбы, как у многих других юношей — онанизмом, и которое… душа собирается скоро покинуть», — то «не удивительно, если я совершу безумство и опережу последнюю каверзу мнимо слепой судьбы какой-нибудь умышленной добровольной выходкой».
Читать дальше