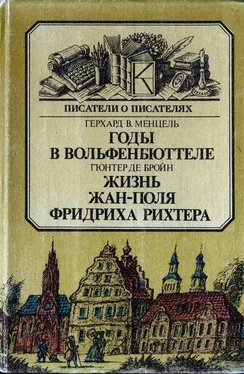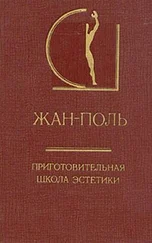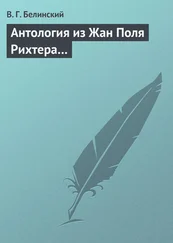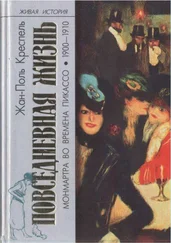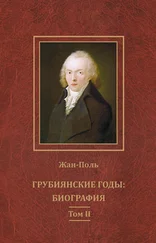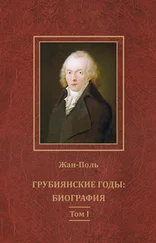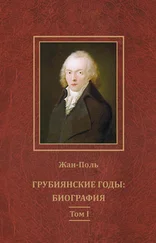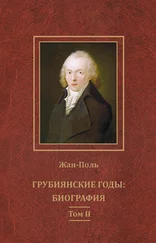Даже после стольких лет голос великого актера все еще звучал в ушах Лессинга, ибо он бывал вместе с Экхофом — ах, в целом мире не найти другого Экхофа! — и на репетициях, и на спектаклях, и сотни раз внимал ему и наблюдал его в веселой дружеской компании после представлений Гамбургского национального театра.
Однако когда Лессинг принялся читать:
«В седые времена в стране восточной
Жил человек; был перстень у него
С бесценным камнем — дар руки любимой…»,
котенок, обитавший теперь в доме и пользовавшийся правом сидеть на письменном столе Лессинга, когда тот работал, озадаченно поднял голову, перестал умываться и сузил глаза, словно зверек оценивал благозвучие текста. Стоило Лессингу сделать паузу, если в пьесе следовала короткая реплика: «Султан, ты понял?» или похожая: «Ты слушаешь, султан?», как у котенка шерсть на загривке тотчас вставала дыбом. Лессинг взирал на это с изумлением. Но зверек отважно продолжал сидеть где сидел, упорно снося все взлеты голоса, все шепоты, мольбы, проклятия, угрозы. И лишь когда Лессинг подошел к концу, к той тщательно продуманной заключительной сентенции:
«И если та же сила неизменно
Проявится и на потомках ваших, —
Зову их через тысячи веков
Предстать пред этим местом. Здесь тогда
Другой судья — меня мудрее — будет.
Он скажет приговор. Ступайте!»
(Перевод В. Лихачева )
— котенок вскочил, подобрался, выгнул спину и — шмыг! — одним прыжком оказался у двери.
Но Лессинг тотчас примирительно позвал: «Эй, к тебе это не относится, киска! Иди сюда! Ну иди же скорей сюда!»
Потом он отправился с котенком на кухню, попросил Мальхен налить в плошку молока и поставил ее на полу у себя в кабинете.
Никто, — он знал это, — никакой Экхоф, никакой Фридрих Людвиг Шрёдер не стал бы играть «Натана Мудрого»! Пьеса — кошке под хвост…
Во Франкфурте-на-Майне всем книготорговцам тотчас же по выходе «Натана» в свет возбранялась продажа этой «скандальнейшей» из всех драм. Аналогичные запреты вскоре последовали повсеместно. Теологический факультет Лейпцигского университета обратился к королю Саксонии с прошением «не дозволять» распространение этого печатного произведения.
То была старая песня, старая мерзкая нетерпимость.
Этим летом, желая побыть наедине, Лессинг частенько прогуливался среди высоких берез по городскому валу возле библиотеки. Там он мог себе иногда позволить размышлять вслух, не рискуя показаться странным.
Ему снова пришла в голову мысль еще раз продолжить свой спор с Гёце, Землером и иже с ними в драматургической форме — даже если и не будет возможности поставить пьесу на сцене. После «Натана» он решил написать «Милосердного самаритянина» — трагедию в пяти действиях по притче, сочиненной Иисусом Христом и изложенной Лукой в 10-й главе.
Лессинг думал: хотел бы я посмотреть, кто тогда посмеет выступить против христианства любви и милосердия — выступить против человеколюбия. И он улыбнулся при мысли о том, что и левит, и священник играли бы у Лессинга, как и у Луки, прямо-таки блистательную роль.
Однако было бы лучше и смелее не возвращаться к старому спору, а отважиться на новый шаг и подвести итог собственным раздумиям, исследовать закон развития, продлить из вчерашнего в завтрашний день воспитание человеческого рода: расчистить путь реке познания!
Шелест деревьев сразу же располагал к размышлению вслух. Свои лучшие реплики Лессинг всегда заучивал наизусть и громко проговаривал, чтобы проверить, как воспринимаются смысл целого, звучание слов и гармония гласных. Задача была ясна: он хотел еще раз гордо выступить против скептиков и недоброжелателей, обвинявших его — об этом свидетельствовал его немалый горький опыт — во всех смертных грехах. В «Натане» он уже на деле преодолел присущую веку тягу к смерти, которую привыкли связывать с Гётевым «Вертером». Теперь своим трактатом «Воспитание человеческого рода» юн собирался убедительно показать, что именно в этом заключается развитие, что именно здесь вьется узкая тропинка: «В нем автор вознес себя на некий холм, откуда ему, как он полагает, открываются несколько более широкие дали, нежели путь, предопределенный ему сегодняшним днем».
Шелест листьев усилился, и Лессинг громким голосом произнес свою исповедь: «Нет, оно наступит, оно определенно наступит, время совершенства, ибо, чем более разум человека проникнется уверенностью в лучшем будущем, тем менее придется человеку черпать в этом будущем мотивы своих поступков; и он станет творить добро, потому что оно есть добро…»
Читать дальше