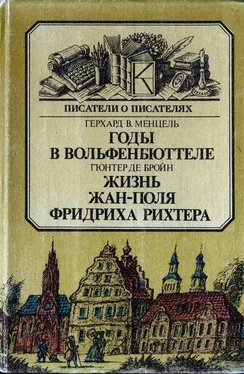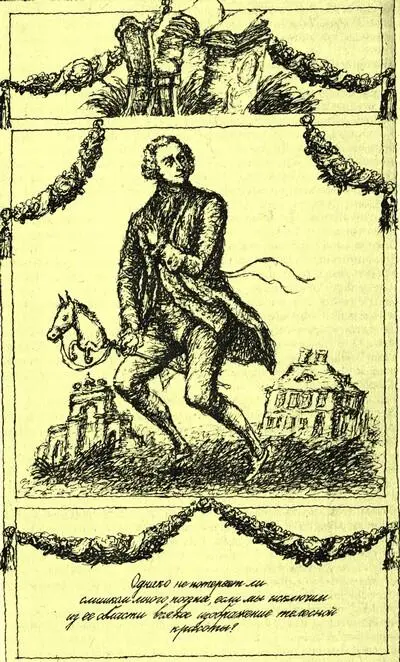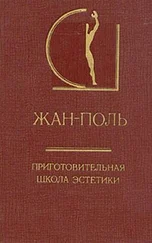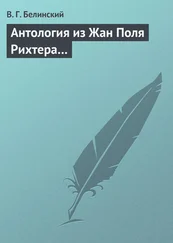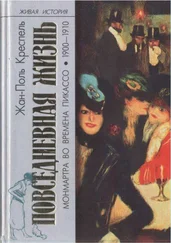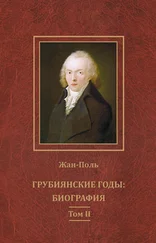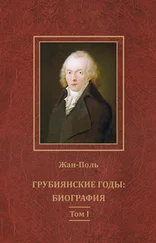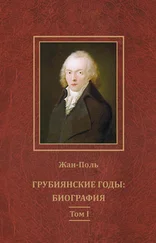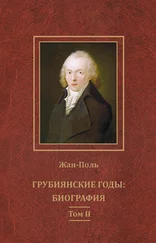Но едва Лессинг вернулся в Вольфенбюттель, как вдогонку ему посыпались письма с оправданиями: дружеские — от Швана и Мюллера-живописца, деловые — от министра, который хотел предотвратить какие-либо претензии со стороны Лессинга, ибо, что и говорить, несколько жалких дукатов вместе с «Оттоном Светлейшим», никак не складывались в обещанные сто луидоров. Вину министр норовил переложить на самого обманутого: «…но поскольку Вы отказались от постоянной пенсии, связанной с необходимостью ежегодно приезжать сюда, и дали понять, что не желаете ограничивать Вашу свободу…» Ну да ладно, так уж и быть, Лессингу и в дальнейшем, во время его будущих приездов в Мангейм, готовы «возмещать все убытки».
Лессинг гордо ответил: «Пусть только кто-нибудь посмеет напечатать или произнести хоть единое слово лжи о моем участии в Мангеймском театре, изобразить его не так, как это было на самом деле, — и я тотчас выложу широкой публике все начистоту. Ваше Превосходительство изволят, видимо, шутить со мной — полагая, будто я, после всего, что произошло, не брошу Мангеймский театр на произвол судьбы и буду время от времени наезжать туда. Я ничего не добиваюсь; но свалиться на голову людям, кои, хотя и сами же меня поначалу приглашали, но тем не менее не захотели или не смогли достойно принять, представляется мне совершенно невозможным».
А радушному Мюллеру-живописцу он дал настоятельный совет: «Прощайте же; и поскорее научитесь относиться к обещаниям сильных мира сего так, как они того заслуживают».
Вскоре после того, как Лессинг возвратился, скоропостижно скончался его старинный друг Фридрих Вильгельм Цахариэ, не раз выказывавший достоинство и гражданское мужество.
— Неужели это и есть начало той пустоты, что приходит с годами? — задумчиво сказал Лессинг Еве.
Еще не оправившись от этого удара, он получил известие о смерти матери. Оно заставило его погрузиться в воспоминания о далеком прошлом. Обстоятельства опять не позволили ему лично поехать в Каменц, ибо последние пфальцские дукаты он был вынужден срочно отослать сестре.
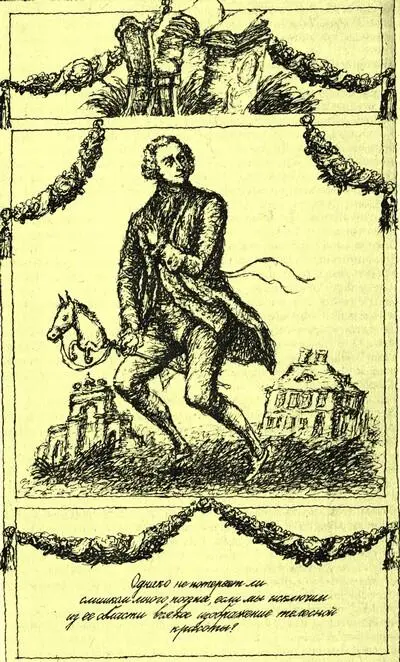
В тот день ранней весной 1777 года в доме Лессингов уже с самого утра шли какие-то тайные приготовления. Когда Ева открыла дверь спальни, ее встретил веселым смехом выстроенный полукругом хор, составленный из Готхольда и детей. Лессинг сделал едва приметный знак рукой, и дети стройно произнесли:
— Мы поздравляем любимую маму с днем рождения! Тысячу раз и от всего сердца!
Затем отец снова подал знак, и чистые голоса запели старинную студенческую песню «Gaudeamus igitur» в быстром, живом ритме.
— О, латынь! — воскликнула Ева, когда хор умолк.
— «Gaudeamus igitur» по-немецки означает «Итак, будем веселиться!» — с готовностью пояснил Лессинг.
— Ну вот и первые плоды твоих уроков латыни, — признательно сказала Лессингу Ева.
— Просто стихи запоминаются легче всего, — возразил он.
— Однако, — Ева улыбнулась и обвела взглядом детей, — пение — само по себе искусство!
— Об этом мы вовсе и не помышляем, — возразил Лессинг, как обычно, шутливо. — Люди говорят: где начинается искусство, забава кончается. Но мы-то поем не ради искусства, а ради забавы или, лучше сказать, ради веселья и удовольствия нашей дорогой мамы. А об искусстве, настоящем нелегком искусстве, мы здесь сегодня уж точно не помышляем.
— Я пел так громко, чтобы тебе было меня лучше слышно, — воскликнул усердный Фрицхен.
— И тебе это удалось. Мне всех вас было слышно прекрасно.
После этого дети принесли свои подарки. Мальхен спекла большой сладкий пирог, Энгельберт купил у разносчика булавки и цветные ленты. А Фриц непременно хотел подарить маме свою деревянную лошадку, на палочке, которую отец принес ему с одной из распродаж.
Ева обняла и расцеловала всех троих. А потом сказала Готхольду, что она так благодарна, — нет, она теперь просто счастлива!
После завтрака пришел Эшенбург со своей молодой женой. Эшенбург давно, уже не один год, слыл зятем профессора Шмида, но лишь недавно, после того, как получил место, смог жениться.
Эшенбург, которого Лессинг видел чаще всех остальных брауншвейгских друзей, был заядлым спорщиком. Молодой профессор уже пользовался известностью как переводчик Шекспира, а посему мудрость шекспировского шута обсуждалась за чайным столом до тех пор, пока большой сладкий пирог не был доеден до конца.
Читать дальше