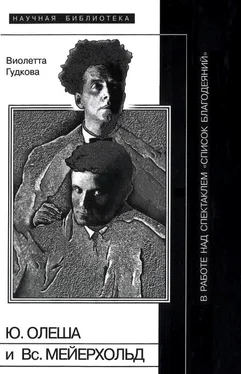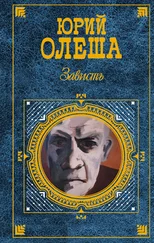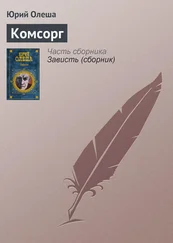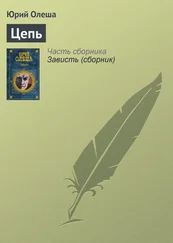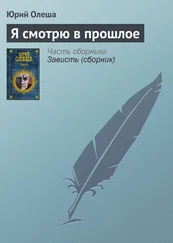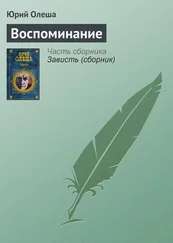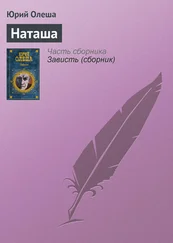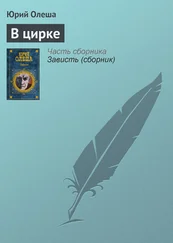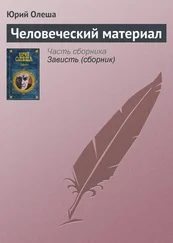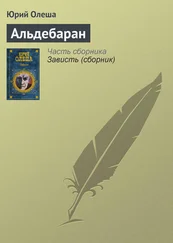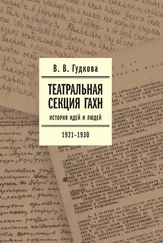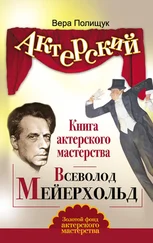Эти варианты датируются февралем — мартом 1930 года (см. далее, в главе 3, письмо Ю. Олеши О. Г. Суок от 16 марта 1930 года). Уточняют промежуток времени, в течение которого установилось окончательное название пьесы (и сообщают еще одно название, отсутствующее в перечне Олеши), газетные заметки. «Вечерняя Москва» 8 февраля 1930 года (№ 32) в рубрике «Среди писателей» сообщает: «Юрий Олеша работает над пьесой „Путешествие“ — для театра им. Мейерхольда». Через полтора месяца, 24 марта, «Литературная газета» (№ 12) информирует: «Ю. Олеша закончил на днях новую пьесу, предполагаемое название которой „Список благодеяний“».
Уже из перечня заголовков, предлагаемых самим Олешей до каких-либо прямых внешних вмешательств, видна неуверенность ангорской позиции, колебания в отношении оценки героини. Список пробовавшихся заглавий похож на своеобразный тест, свидетельствующий даже не о раздвоенном, а о «растроенном» способе интерпретации темы пьесы. Первый, говорящий о внутреннем состоянии героя: одиночество, камера пыток, камень, исповедь, душа. Второй, сообщающий о высоте и нравственном величии персонажа: Гамлет, Беатриче, артистка, совесть. И третий, оценивающий характер героя, скорее, негативно-уничижительно: двойная жизнь, побирушка.
В дневниковых записях Олеша поворот, что никогда ничего не писал по плану [49] «Ничего наперед придумать не могу. Все, что писал, писал без плана: пьесу даже и детский роман…» ( Олеша Ю. Книга прощания. С. 102).
(и на эту фразу часто ссылаются исследователи его творчества [50] См., например: «У Олеши принципиально нет плана» ( Шкловский В. Мир без глубины: Юрий Олеша // Шкловский В. Гамбургский счет. М., 1990. С. 482).
). Но материалы архива свидетельствуют об обратном: в черновиках «Списка» планов пьесы множество, ими, то более подробными, то сжатыми, исписано немало страниц (иное дело, что планы эти корректировались, трансформировались). Отыскиваются здесь и сценарии развития сюжета, важные пометки в связи с пьесой, характеристики персонажей и т. д. По счастливо сохранившимся планам пьесы выстраивается определенная последовательность смены вариантов пьесы, обозначаемых Олешей как «первый вариант», «чистовой вариант», «твердый план второго варианта», «окончательный вариант» (т. е. представляющийся автору таковым в момент фиксации).
Кроме крайне важных для понимания замысла будущей пьесы черновых развернутых планов, сценариев развития сюжета архив писателя сохранил цепочку отдельных эпизодов, впоследствии вошедших в пьесу лишь частично. Их особенностью является то, что вся цепочка рассыпается, не образуя единого текста. Эти эпизоды составили дотеатральный, собственно авторский этап работы над пьесой.
Избран следующий методический ход знакомства читателя с корпусом ранних черновых набросков: сначала печатаются конспективные изложения сюжета в целом, основные идеи и темы будущей вещи, лейтмотивы персонажей, планы, сценарии — т. е. материалы обобщающего характера, которые предлагают определенную «оптику взгляда» на осколочные фрагменты текста.
Затем дается свод вариантов сцен, пробовавшихся, но не вошедших в известные нам связные редакции пьесы.
Далее следуют наброски эпизодов, хотя и схожие с теми, которые впоследствии образуют ту или иную законченную редакцию пьесы, но где действуют исчезнувшие позже персонажи.
Понятно, что особый интерес представляют сценарии и планы, а также сцены, которые ни в каком виде не вошли в связный текст произведения, так как именно по ним можно судить о первоначальном замысле пьесы «Исповедь». Перечислю их.
1. Сцена театрального разъезда с дракой, приставаниями, оскорблениями и проч.
2. Сцена с расклейщицей афиш «в духе раннего символизма».
3. Сцены за кулисами: приезд вождя, «друга театра», разговор героини с мужем Костей и режиссером Росмером, ее отрывочные диалоги с актерами-коллегами, сжигание Катей, подругой героини, тетрадки со списком благодеяний (причем с помощью тех самых факелов, которыми только что завершился шекспировский спектакль).
4. Сцены обсуждения спектакля: появление некоего Ибрагимова, обвиняющего Лелю, и «глиняного истукана» (либо — работницы), образ невежественного зрителя.
5. Сцена в общежитии (два варианта).
Обращает на себя внимание, что все это «московские» эпизоды пьесы, закрепляющие на первоначальном этапе работы определенный образ советской страны.
С исчезновением (или существенной переработкой) ряда сцен уходили и становящиеся ненужными персонажи. Перечислю героев, действовавших в ранних набросках и исчезнувших еще до рождения первой редакции пьесы:
Читать дальше