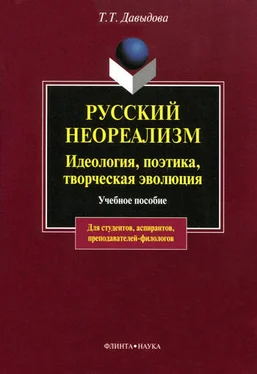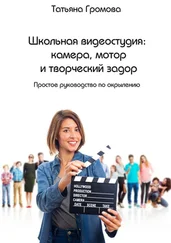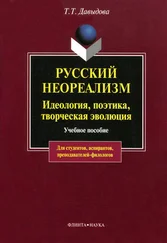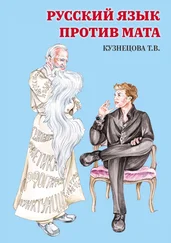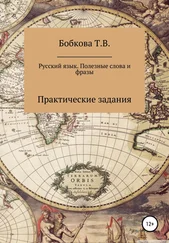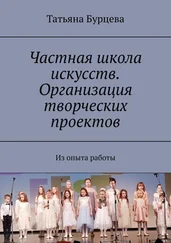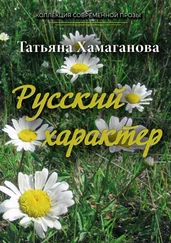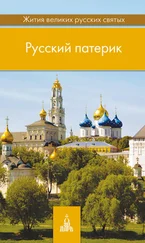Колобаева охарактеризовала и модернистский психологизм. По ее мнению, «основная и общая тенденция в эволюции психологизма в литературе XX в. – это отталкивание от способов аналитических в пользу синтетических, уход от прямых и рационалистических приемов в пользу косвенных, сложно опосредованных и все пристальнее обращенных к сфере подсознательного» [19]. Московский профессор показала также, что модернисты разных стилевых течений старались создать новый язык.
Неореалисты А.М. Ремизов, Е.И. Замятин, М.М. Пришвин, С.Н. Сергеев-Ценский, А.П. Чапыгин, В.Я. Шишков обогатили в своем творчестве литературный язык предшествующей эпохи за счет широкого введения диалектизмов разных региональных групп и неологизмов, а также пословиц, поговорок, речевых клише из русских народных заговоров, народных плачей и былин. Резко своеобразен и язык А.П. Платонова, сочетающий в себе две противоположные тенденции: к метафоризации и к деметафоризации. Насколько последовательно и обдуманно писатели проводили в жизнь свои языковые принципы, можно судить по их статьям, прежде всего по статье Е.И. Замятина «О языке», в которой теоретически осмыслены и прокомментированы основные особенности его художественной речи.
В начальный период существования модернизма для него не было подходящего термина: модернизм называли новым, или небальзаковским, реализмом. Впоследствии же возникло иное терминологическое обозначение – декадентство, модернизм. Четкое разграничение декадентства и модернизма в духе советского литературоведения второй половины 1950 – первой половины 1980-х гг. дано в статье Д. Затонского «Что такое модернизм?».
Первое понятие он прилагает к нереалистическому искусству конца XIX – начала XX в., второе – к тому же искусству 20—60-х гг. XX в. Этот же исследователь характеризует как составную часть модернизма и авангард, убедительно определяя при этом их сходство: неприятие реализма авангардистами «сближало «авангардистов» с модернизмом, даже включало их <���…> организационно в общий модернистский поток. Все здесь пели об астральном, космическом, универсальном; все молились на бури и катастрофы. Однако отправным пунктом модернистской жалобы было отчаяние, а «авангардистского» поиска – надежда» [20]. Так ли это? А как быть с явно модернистской лирикой А. Блока и А. Белого, наполненной самыми разными чувствованиями? «По идейной и эстетической сути своей модернизм как метод буржуазен <���…>», «противоречивость, кризисность, безысходность и есть, очевидно, основное, «константное» в модернизме» [21], – подобные заявления Д. Затонского показательны для бытовавшего в литературоведении 1970-х гг. вульгарно-социологического подхода к проблеме. Да и предложенное Затонским терминологическое разграничение декадентства, собственно модернизма и авангардизма основано прежде всего на хронологии, а не на художественных явлениях, которые бы отличались коренным образом друг от друга, и способно лишь еще сильнее запутать и без того непростую проблему.
Итак, синтез двух теорий модернизма – Келдыша, Гинзбург, Геллера и Голубкова, с одной стороны, и Д. Затонского, Клюге и Колобаевой – с другой, позволит анализировать модернистские произведения в единстве их содержательноформальных сторон.
Периодизация и типология русского модернизма. А.А. Колобаева усматривает в модернизме конца XIX – начала XX в. две фазы – символизм (1890—1900-е гг.) и постсимволизм – 1910-е гг. [22]Плодотворен подход О.А. Клинга к данным фазам: постсимволизм, возникший в период «кризиса символизма», и отталкивается от наследия русского символизма, и сохраняет в художественной практике внутренние связи с ним. При этом 1910–1917 гг. являются периодом стагнации символизма и превращения в «господствующее литературное направление», а 1917–1934 гг. – «латентным» периодом, когда традиции символизма продолжали существовать в России и эмигрантской литературе [23].
Внутри обеих фаз выделяют также импрессионизм, экспрессионизм и примитивизм как стилевые течения либо определенные художественные тенденции, существующие и в более поздние периоды – в 1920—1930-е гг.
Так, Усенко понимает первое из этих явлений как течение, пограничное с символизмом в поэзии и с романтизмом и неоромантизмом в прозе. М.М. Голубков видит во всех трех явлениях полноправные эстетические системы, получившие развитие в модернизме в 1920—1930-е гг. По мысли исследователя, первые две системы сближает принадлежность к модернизму, проявившаяся в подчеркнутой антиреалистичности. В статье Т.Д. Никольской «К вопросу о русском экспрессионизме» (1990) проблема поставлена в наиболее общем плане. При этом исследовательница справедливо, как и М.М. Голубков, пишет о возможном воздействии экспрессионизма на творчество Е. Замятина [24].
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу