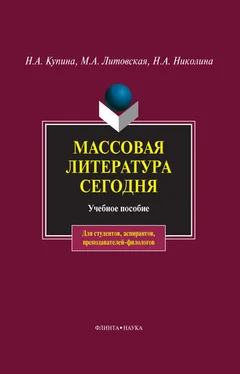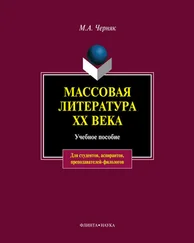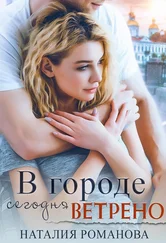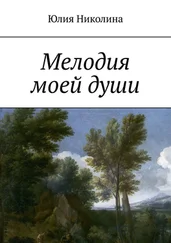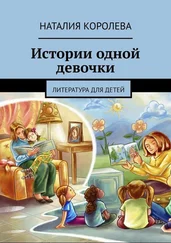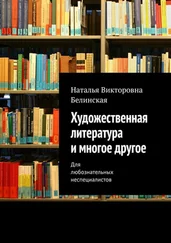Факт широкого распространения «низовой» (массовой) литературы в России начала XX века подтверждают не только списки выходивших в начале века книг, отклики критиков, но и более поздние по времени воспоминания тогдашних читателей. В то время как в образовании существовала традиция изучения образцовых текстов, жестко отобранных произведений классиков, русские гимназисты и реалисты, пройдя через «разрешенных» Жюля Верна, Александра Дюма, Виктора Гюго, «книги капитана Майн Рида… в упрощенных переводах» [Набоков 1990: 246], тоже относившихся к приключенческой литературе, покупали дешевые «выпуски» про американских сыщиков Ната Пинкертона и Боба Руланда. Судя по всему, интеллигентные родители, с иронией или презрением отвергавшие низкопробные сыщицкие романы, сами, заглянув в любимые книжки своих детей, не испытывали соблазна читать их далее, хотя бы и тайком. Позже так же равнодушно, как к возрастному недугу, они относились к увлечениям детей авангардом, скажем, сборниками футуристов или стихами Игоря Северянина.
Если в начале XX века свойственные модернизму представления о провиденциальной роли искусства порождали открыто элитаристские представления о «высокой» литературе как уделе избранных и «низкой» как прибежище «фармацевтов», мещан, то уже к 1920-м годам жесткие границы культурных норм начали размываться не только на уровне индивидуальных пристрастий, но и на уровне общественных представлений. Постепенно выведение «низкого» за пределы сферы культуры стало считаться недемократичным, к массовому искусству начинают относиться более снисходительно, считая его тоже искусством, только особого рода. Для воспитанного в традициях Серебряного века В. Ходасевича фильмы Чарли Чаплина безоговорочно существовали как «идиотства Шарло» (см. написанное В. Ходасевичем в 1925 году стихотворение «Баллада»), пригодные только для развлечения неразвитого обывателя; по его мнению, «аукаться» образованное сословие могло только с помощью Пушкина, то есть «высокой» классики (см. статью 1921 года «Колеблемый треножник»), Но уже младшее поколение эмигрантских писателей относилось к Чаплину, кинематографу, радиопостановкам, разного рода шоу куда более снисходительно. Сегодня же фильмы с участием Чаплина считаются золотым фондом мирового кино.
К середине XX века кардинально изменилась информационная система в обществе: радио, телевидение, кино, бесчисленные журналы и газеты с их разветвленной системой развлекательных жанров и постоянно обновляющимися сводками новостей. Продолжает усложняться художественный язык авангарда и следующей за ним «беллетристики». В этих условиях массовая литература, получая мощную техническую поддержку со стороны издателей и книгораспространителей, любимая большинством читателей, начинает выполнять еще и функцию консервации художественных традиций. Она обращается к литературной технике, отработанной предшественниками, усвоенной и благосклонно принятой широкой читающей публикой.
Массовая литература, как и массовая культура в целом, возникает и развивается благодаря развитию и укреплению политических демократий. Выражая в конечном итоге представления элит о потребностях и запросах народа, она в то же время поддерживает в читательской массе целый ряд психологических и социальных иллюзий, в том числе иллюзию сглаживания противоречий между социальными стратами. В тоталитарных государствах массовая литература практически отсутствует, поскольку деление литературы на «массовую» и «элитарную» официально «прячется». В Советской России в 1920-е годы существовал свой проект развития массовой литературы – «красный пинкертон» – авантюрно-приключенческие романы с советской идеологической подоплекой («Месс-Менд» М. Шагинян, «Остров Эрендорф»
В. Катаева и др.) [см. об этом: Russel 1982]. Но провозглашенная в 1934 году единственной имеющей право на существование в советском обществе литература социалистического реализма ориентировалась на создание текстов такой степени доступности, когда границы читательской аудитории должны были приближаться к границам общества, которое по мере ликвидации безграмотности и избавления от «чуждых элементов» становилось все более однородным. Это предполагало известную унификацию как содержания, так и формы вновь создаваемых текстов. Возникли предпосылки для формирования кодифицированного искусства, нормы которого были заведомо упрощены и доведены до понимания большинства членов общества. Массовость советской литературе придавал сам способ работы с текстом: последний «доводился» до окончательной нормативности не только автором, но и рецензентами, редактором, критиком, цензором. Хотя реально нормативность и широчайшее распространение текста не являются залогом его популярности, все социальные институты общества (книгоиздание и книгохранение, критика, образование) были направлены если не на создание такой популярности, то, по крайней мере, на демонстрацию (зачастую, видимо, иллюзорную) таковой. Это приводило к размыванию границы между литературой «высокой» и «низовой». В итоге внеидеологическая критика советского искусства сводилась к обличению «серости», то есть сомнению подвергалось качество воспроизведения нормы, а не правомочность ее существования.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу