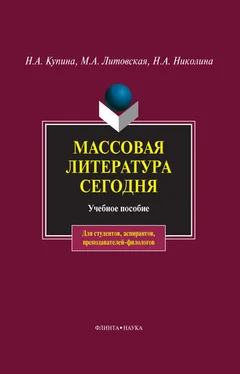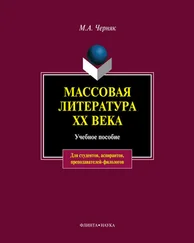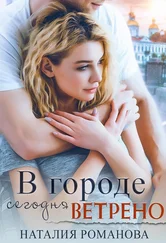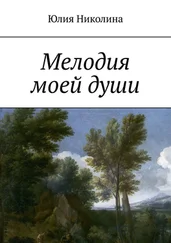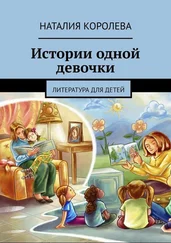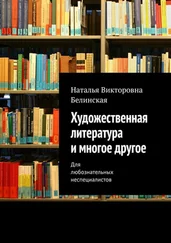Необходимость поддерживать определенный состав заранее определенных ценностей приводит к ориентации массового искусства (и литературы в частности) на то, чтобы вызвать у массы однотипную, однозначную реакцию: сходный эмоциональный отклик, не предполагающий напряженной или хотя бы длительной индивидуальной духовной работы. «Потребление» массовой литературы должно отвечать важному для массового общества признаку комфортности : она должна создавать у читателя ощущение безопасности, отвлекать от болезненных психологических, социальных и т. п. проблем, не требовать усилий при чтении, быть увлекательной, чтобы заставить читателя «выключиться» на время чтения из круга повседневности.
В эпоху массовизации и «технической воспроизводимости» «низовая» литература в большей своей части сводится к литературе массовой. В известной степени можно говорить о том, что в среде слабообразованных слоев населения массовая литература в какой-то степени заменяет фольклор и даже сама становится его источником. Постепенно «потребителями» активно развивающейся «низовой» литературы становятся новые слои населения.
К концу XIX века в литературном процессе складывается триада: авангардная литература – сориентированная на «классическую» литературу беллетристика – массовая литература. Эта «разметка» поля литературы продолжает существовать по сей день. Впрочем, крайние части триады успели за это время обзавестись своей «классикой», и сегодня абсолютно корректно употреблять выражения «классика авангарда», «классика научной фантастики» или «классика детектива» [о содержании понятия «классика» см., напр.: Гудков, Дубин, Страда 1988; Компаньон 2001]. Традиционно авангард и беллетристику относят к элитарной литературе, то есть литературе, предназначенной для эстетического обслуживания образованной части сообщества с развитыми культурными запросами.
В начале своего сосуществования и авангард, и «классика», и массовая литература ориентировались на определенные группы читателей, которые почти не смешивались. Авангард был уделом экспериментаторов, а также склонной к культурным революциям молодежи. При этом в своем расширении границ искусства авангард тяготел к вовлечению в сферу последнего образцов искусства «низового»: лубка наряду с примитивом и т. п. [подробнее об этом см.: Васильев 1999]. Аудитория авангарда проявляла интерес к новациям в области художественного языка. К «классике» тяготели образованные традиционалисты. Массовая литература вначале была уделом только вступающих в мир «большой» культуры групп недавно приобщившихся к письменному образованию читателей.
Потенциальная аудитория каждой из частей триады, т. е. авангарда, классики, массовой литературы, постоянно менялась. Состав аудитории, по-видимому, отчасти регулировался общественным мнением. В начале XX века в обществе господствовали идеи безоговорочной иерархии ценностей, в том числе эстетических и культурных. Например, образованный человек, оставшийся в своих требованиях к описанию любовного чувства поклонником Вербицкой или Арцыбашева, писателей модных, но считавшихся сомнительными с художественной точки зрения, и не поднявшийся выше – к Пушкину, Тургеневу, Толстому, – вызывал в своем кругу недоумение, а то и презрение.
Впрочем, для читателя, далекого от профессиональных литературных занятий, во все времена естественно было формировать круг чтения на основе личных вкусовых предпочтений, отбирать для чтения тексты разного качества. Как отмечают исследователи частных письменных документов – писем, дневников, – «в сознании провинциального любителя словесности не существовало конфликта между “массовой” литературой и литературой “элитарной”. При этом читатель, безусловно, чувствовал отличие высокого искусства от развлекательного чтива и в зависимости от ситуации, настроения, цели чтения, а также прочих обстоятельств выбирал то или другое. Так, например, в круге чтения Чихачева, мелкого помещика 1798 года рождения, жившего в своем именьице Дорожаево, “литературный промышленник” Булгарин и “литературный аристократ” Пушкин занимали каждый свое, подобающее ему место». И если к Пушкину он относится с «необыкновенным пиететом», то Булгарин в его глазах был «просто приятным собеседником, с которым можно потолковать накоротке» [Головина 1999: 16]. То, что было характерно для середины
XIX века, не слишком изменилось и в веке XX. Не случайно уже в конце XX века И. Анг поставит проблему невозможности адекватного отражения реальных предпочтений потребителя культуры, поскольку факт покупки книги или просмотра той или иной телепередачи не дает представления о том, как человек прочитает/посмотрит эту книгу/телепередачу и что из этого общения извлечет [см.: Ang 1991].
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу