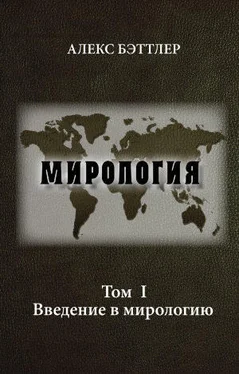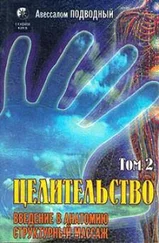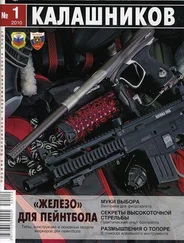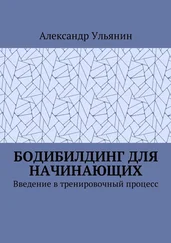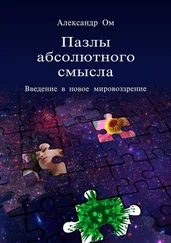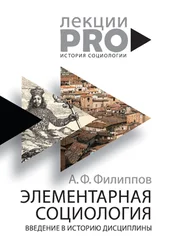Дэниел Белл, предвидя широкое вторжение науки в общество, детально анализировал проблему измерения знаний. В качестве индикаторов науки он брал динамику количества научных публикаций за продолжительное время, расходы на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) и в целом на науку и технологию, количество занятых в науке и в системе образования и т. п. Как он сам выразился, это «грубое» измерение. Белл, безусловно, прав хотя бы уже потому, что такого типа индикаторы вошли в научный оборот со второй половины XX века (например, НИОКР). Аналогичной статистики в былые времена не существовало, и поэтому по этим индикаторам невозможно оценить, скажем, уровень знаний в Средневековье или в еще более древние времена.
Тем не менее анализ устоявшихся показателей в сфере знаний, науки и образования не только целесообразен, но и необходим. По крайней мере эти показатели дают хотя бы общее представление об интеллектуальном уровне общества и одновременно высвечивают определенную тенденцию его развития. Поэтому кое-какой статистический материал из этого ряда я приведу в дальнейшем.
Есть и другой вариант измерения знаний. Как уже неоднократно утверждалось, знания и сила – взаимообратимые понятия, и поэтому знания можно измерять через силу. Но сила тоже непростое понятие в плане измерения. Тем не менее, исходя из моей концепции силы, довольно наглядно измеряется ее базисная часть – то, что называется ресурсом, или мощью. Но проблема здесь другого рода. Та же экономическая мощь может оказаться «дурной», бесполезной с точки зрения конечного результата, который в данной работе обозначается как дельта жизни. К примеру, экономическая мощь некоторых стран Юго-Восточной Азии (Филиппины, Индонезия) увеличивалась весьма быстрыми темпами на протяжении 15–20 лет без ощутимого влияния на среднюю продолжительность жизни их граждан. То есть опять все упрется в политику, от которой будет зависеть эта дельта. В конечном счете по этой дельте мы сможем измерить, точнее, оценить знания той или иной страны. Но это взгляд на знания через силу, т. е. оценка конечного результата. С точки же зрения прогнозирования все-таки важен взгляд на силу через знания. Есть ли какой-нибудь вариант более точного прогнозирования, чем использование индикаторов, упомянутых выше?
На мой взгляд, есть, и он принадлежит уже упоминавшемуся американцу Чарльзу Мёрэю. Этот ученый написал уникальную монографию «Достижения человечества. Стремление к совершенству в искусстве и науках от 800 г. до н. э. до 1950 г.» [202]. Автор проанализировал развитие науки и искусства на протяжении почти трех тысяч лет, причем не только в Европе и Северной Америке, но и на Востоке (Индия, Китай, Япония). Он выявил наиболее значимые фигуры в науке и искусстве, которые внесли «новое» в развитие человечества. Это была крайне сложная задача с методологической точки зрения. Как выделить «значительные фигуры» (или «уникальные индивидуумы»), какие критерии взять за основу при их определении и т. д.? Своему методу Мёрэй посвятил чуть ли не треть своей обширной монографии (668 стр.), подробно описав технические и статистические основы своего подхода. Хотя я не согласен с некоторыми аспектами его метода, но вынужден признать, что в целом с точки зрения объективности я не встречал более совершенных методов и потому вынужден принять его целиком. Объяснять этот метод здесь было бы неуместно, поскольку это увело бы нас слишком далеко от обсуждаемой темы. Могу только сообщить, что Мёрэй проанализировал все наиболее значимые энциклопедии и биографии-справочники, позволившие ему сделать перекрестный анализ и выделить самые значимые фигуры, а их математическая (графическая) интерпретация строилась на основе кривой Лотка и различного типа индексов статистики. Мёрэй подверг анализу представителей таких «строгих наук» (hard sciences), как астрономия, биология, химия, землеведение, геология, океанография, аэрономия (микрофизика атмосферы), физика, технология, а также таких «мягких» наук (soft sciences), как философия (западная, китайская, индийская), медицина, а также музыки (западная), живописи (западная, китайская, японская), литературы (западная, арабская, китайская, индийская, японская).
По обоснованным им причинам Мёрэй не включил в этот ряд «коммерцию» и «управление», а также представителей социологической науки (главным образом из-за отсутствия либо плохого качества источников). В результате в «великие» у него попало 4002 человека (фактически 3869: разница из-за того, что некоторые лица представлены в различных рубриках дважды или даже трижды, как, например, Платон, Ньютон или Лейбниц). Эти цифры нам еще понадобятся, но с точки зрения науки для нас более важным показателем являются «научные события», а еще более важным – «значительные события» [203]. Такие события при анализе оказались важнее, чем сама личность, поскольку в науке может оказаться, что открытие некоего гения не стало событием, поскольку слишком опередило свое время (как было со многими изобретениями Леонардо да Винчи) или не получило реализации по каким-то другим причинам. В то же время не особенно «гениальный» человек изобрел, иногда совершенно случайно, нечто, казалось бы, «не очень великое», но это «не очень великое», вторгнувшись в жизнь, сделало переворот в жизни человечества, например тот же Джеймс Уайт со своей паровой машиной. Так вот, «событий» Мёрэй насчитал с 800 г. до н. э. до 1950 г. 8759 и среди них только 1560 «значительных». Однако даже из них он выделил центральные события, которых оказалось 749.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу