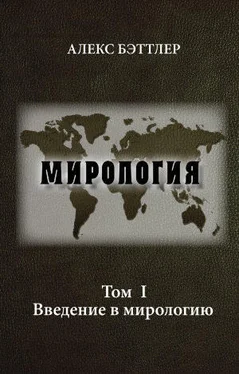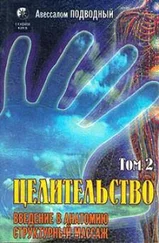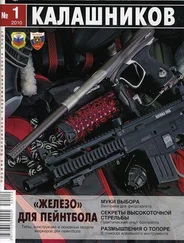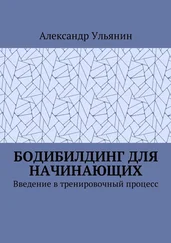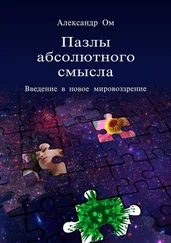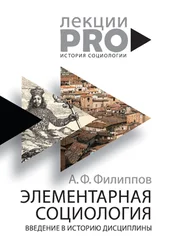Таким образом, на третьей стадии достигается такое единство субъективного и объективного, при котором понятие находит свое адекватное выражение. Такое взаимопроникновение противоположностей – мысли и объекта – означает раскрытие истины.
Напомню, что приближение к истине разворачивается в такой последовательности:
Рассудок определяет и твердо держится определений; разум же отрицателен и диалектичен , ибо он обращает определения рассудка в ничто; он положителен, ибо порождает всеобщее и постигает в нем особенное (там же, с. 19).
Соединение того и другого приводит к «рассудочному разуму, или разумному рассудку», что равно позитивному.
Любой знакомый с тезисами Маркса о Фейербахе обратит внимание на то, что воспроизведенные выше рассуждения Гегеля послужили основой для критики концепции познания Фейербаха. Главный недостаток последнего, писал Маркс, заключается в том, что «предмет, действительность, чувственность берется только в форме объекта , или в форме созерцания , а не как человеческая чувственная деятельность, практика, не субъективно» [129]. Такой подход в корне противоречит гегелевским взглядам, когда исключается деятельная сторона мышления, его слияние с предметом, мышление как предметная деятельность. Утверждение такого подхода ведет в конечном счете к отрыву мышления от предмета, теоретической деятельности от практики, в результате чего хиреет как сама мысль, так и практика. Маркс, выступая против этого, писал:
Вопрос о том обладает ли человеческое мышление предметной истинностью, – вовсе не вопрос теории, а практический вопрос. В практике должен доказать человек истинность, т. е. действительность и мощь, посюсторонность своего мышления (там же).
Таким образом, марксистский способ познания – это творческое использование гегелевского способа познания, истинность или ложность которого постоянно должны проверяться на практике.
* * *
Еще раз хочу повторить. Существуют различные принципы мыслительной деятельности рассудка и разума. В обыденном сознании обычно оперируют словами, которые дают возможность описывать явления окружающего мира. К сожалению, и та область знания, которая охватывает внешнюю политику и международные отношения, не обладает своим языком – понятийным аппаратом, довольствуясь в лучшем случае терминами. Они же не обрели понятийную определенность. В этом их уязвимость. Внешняя политика и международные отношения как сферы исследований продолжают уповать на здравый смысл, который в лучшем случае отражает чувственно-конкретные представления рассудка. А он мыслит по принципу, как остроумно заметил Гегель, «жить и жить давать другим» (=плюрализм), т. е. признает определения, термины как «равнодушные» друг другу без противоречий, без сопряженностей. Поэтому уже давно настала пора к этой сфере знания приобщить разум, оперирующий понятиями. Через них постигаются противоположности в их единстве, постигается положительное в отрицательном, в отрицательном положительное. Разум удерживает понятия в их определенности и познает исходя из них.
3. Прогнозы: общие методологические объяснения
Несмотря на то что большинство теоретических школ отрицают возможность научного прогнозирования международных отношений, многие ученые весьма активно втянуты в этот процесс. Более того, прогнозирование даже стало своего рода отдельной дисциплиной под названием «футурология». Свое развитие и признание эта сфера науки получила в стенах Гудзонского института, директором которого была такая яркая личность, как Герман Кан. Прежде чем обращаться к прогнозам международных отношений, нужно сначала разобраться на теоретическом уровне: возможно ли действительно делать прогнозы на базе научных инструментов познания? А если возможно, то на какую временную глубину можно прогнозировать?
Известно, что делать прогноз, скажем, на сто лет вперед легко и одновременно очень сложно. Легко потому, что те, для которых делается этот прогноз, не смогут его проверить. Сложно потому, что с позиции науки его просто невозможно сделать. В этом убеждают не только сама научная логика, но и все предшествующие прогнозы, которые мне удалось прочитать. Красноречивым примером этой очевидной истины служат футурологические книги того же Германа Кана и его коллег, прогностические оценки которых не выдержали испытание временем даже на «глубину» 30 лет [130]. Правда, как справедливо писалось в советское время, западные ученые делали свои прогнозы на базе футурологии, которая фактически не имеет отношения к науке, а являет собой идеологизированный взгляд на будущее, в котором должен процветать не просто капитализм, а прежде всего американский капитализм, т. е. США.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу