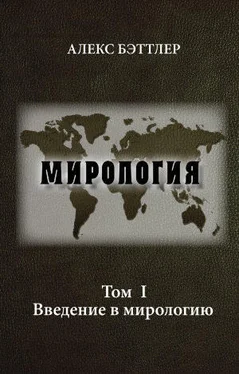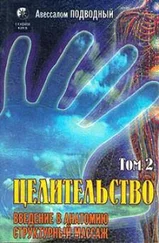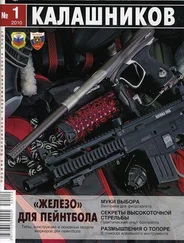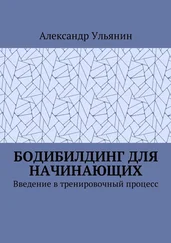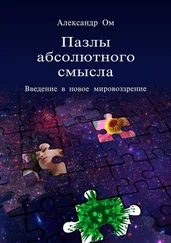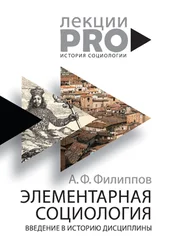В теории сложности есть интересные и важные методические блоки, которые возможно применять в некоторых естественных науках, но они плохо приспособлены для анализа международных отношений. И показателем этого являются рассуждения уважаемого физика относительно этих отношений.
Он совершенно справедливо говорит о том, что достижение необходимого баланса между сотрудничеством и конкуренцией является наиболее сложной проблемой на всех уровнях. И предлагает, чтобы все прониклись «планетарным сознанием», чувством солидарности со всем человечеством. Для этого надо признать идею взаимозависимости всех людей и всех сторон жизни, что, дескать, позволит решать долгосрочные проблемы мира наряду с локальными проблемами. И сам же пишет:
Этот переход может показаться даже более утопическим, чем некоторые другие, но если мы хотим управлять конфликтом, который основан на разрушительном партикуляризме, очень важно, чтобы группы людей, которые традиционно противостояли друг другу, признали свою общность как человечество (ibid., р. 11).
Все это прекрасно, но где в таких рассуждениях следы теории сложности? Это слова гуманиста, действительно наивного, но не умозаключения ученого, опирающегося на специфическую методологию, которая способствовала бы углублению знаний закономерностей международных отношений.
Следует отметить, что не все участники упомянутой конференции, посвященной теории сложности, с пониманием отнеслись к этой теории и ее инструментарию. Например, выступление 36. Бжезинского, как он сам заявил, было «передышкой» от этой теории (ibid., р.13), а в выступлении известного теоретика Джеймса Розенау (Университет Джорджа Вашингтона) прозвучала завуалированная критика, которая не для всех выглядела очевидной.
Розенау заменяет слово элементы (системы) на слово агенты , в результате чего получается совершенно иной образ явлений, который посрамляет теорию сложности. Он пишет:
Взаимоотношения между агентами – это то, что делает их системой. А способность агентов сломать рутину и таким образом инициировать неизвестные обратные процессы – это то, что делает систему сложной (хотя в простой системе все агенты постоянно действуют описанным способом). Способность агентов действовать коллективно против новых вызовов – это то, что делает их взаимоотношения адаптивными системами (ibid., р. 36).
Проницательный читатель сразу же поймет, что в интерпретации Розенау общественные системы состоят не из бездушных элементов , которые могут в соответствии с теорией сложности двигаться в любых направлениях, а следовательно, они непредсказуемы. Вместо элементов у Розенау агенты , т. е. социальные единицы, которые в рутинном варианте легко предсказуемы, да и в нерутинном (когда что-то «сынициировалось»), хотя и делают систему «сложной», но одновременно при «коллективном действии» – адаптивной, т. е. предсказуемой.
К примеру, НАТО 1949 г. отличается от НАТО 1999 г. и от НАТО 2006 г., но при всех вариантах НАТО по своей сути остается НАТО – военной организацией, нацеленной на обеспечение безопасности ее членов. То есть, пишет Розенау, «естественная структура» не меняется даже если в ней появляются новые члены (или «элементы» по теории сложности, хотя на самом деле они агенты). Ссылаясь на Роджера Льюиса, он утверждает, что жизнь любой системы, «на любом уровне это не смена одной чертовщины другой, а результат фундаментальной внутренней динамики» (ibid.).
Розенау хотя и не прямо, но пытался своими примерами показать, что теория сложности не может адекватно отразить общественные явления, в том числе и международные отношения, поскольку они не мертвые «элементы», а социальные организмы, работающие по определенным законам общественной жизни.
Вместе с тем Розенау не может избежать давления позитивистского мышления, постулируя: «Понимание, а не предсказание является задачей теории» (ibid., р. 40).
Это чисто позитивистский подход, который предполагает обычно описание текущего явления , а не на его сути. Понимание необходимо только для того, чтобы проникнуть в явление и, растворяясь в нем, выяснить его сущность, и, следовательно, объяснить форму и содержание его существования, а значит, и предсказать его поведение. Понимание – это просто одно из звеньев познания, а не его конец.
Весьма любопытно, что другой критик теории сложности, Стивен Р. Манн (госдепартамент США), оппонирует ей с другой стороны. Как чистый практик, он, судя по всему, вообще скептически относится к научному познанию мира, уповая на «искусство» в том смысле, что вся внешняя политика, стратегия и другие аналогичные вещи – это «искусство дипломатии». И вообще «искусство находится в состоянии войны с природой» (ibid., р. 62). И даже говоря о хаосе (в контексте теории сложности), важен не сам хаос, а как мы реагируем на хаос, прежде всего в контексте хаос-стабильность.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу