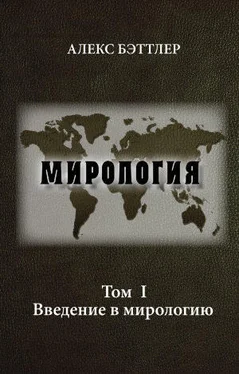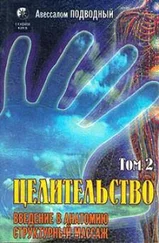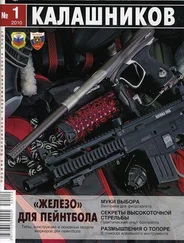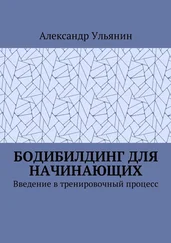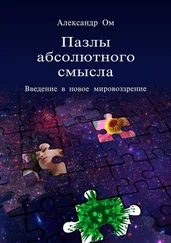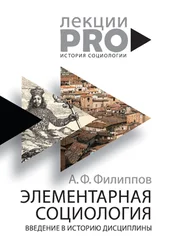Но ничто из того, что было или будет сказано, не делает этот процесс эволюции направленным к чему-либо. Несомненно, этот пробел обеспокоит многих читателей. Мы слишком привыкли рассматривать науку как предприятие, которое постоянно приближается все ближе и ближе к некой цели, заранее установленной природой. «Происхождение видов» не признавало никакой цели, установленной Богом или природой (там же, с. 220, 221).
В мою задачу здесь не входит критика концепций Куна, которая и без меня с философских и науковедческих позиций дана во многих работах ученых марксистского направления. К примеру, советский философ Э.М. Чудинов подверг убедительной критике положение Куна о том, что соответствие характеризует якобы формально-математический аспект теории и не затрагивает их содержания [59]. Повторяю, у меня другая задача: выявить как раз те его идеи, которые продуктивно можно было бы использовать в ТМО.
Теперь разберемся с Лакатосом, который у теоретиков в большем почете, чем Кун. На это указывает специальная работа теоретиков с предисловием Кеннета Уолца, в которой анализировались идеи Лакатоса, оказавшие большое влияние на международников. Известно, что Лакатос ввел понятие научно-исследовательские программы взамен куновских парадигм. Их он и анализирует на основе собственной методологии с внедрением таких терминов, как фаллибилизм , означающий погрешность (кажется, позаимствованный у Ч. Пирса), джастификационизм, пробабилизм и т. д., значения которых понятны всем, кто знает английский язык. Рассмотрим, за что же его полюбили теоретики.
Уолц в своем вступлении пишет:
Лакатос смотрит сразу же в суть проблемы. Его афоризм звучит так: «Мы не можем доказать теории, точно так же как и не можем их опровергнуть». Он прав, в частности, потому, что факты не более независимы от теорий, чем теории от фактов [60].
Добавление, сделанное Уолцем, звучит более чем странно: факты и теория, безусловно, взаимосвязаны, однако, как показывает практика научных исследований, обычно факты предшествуют созданию теорий. Крайне редко бывает наоборот. А сама теория проверяется подтверждаемостью и повторяемостью фактов. И если они адекватно отражают реальность, то, следовательно, и теория отражает реальность, а если не отражают, то теория признается ложной. И почему это нельзя доказать, совершенно непонятно.
В поддержку Лакатоса Уолц приводит «убийственный» пример: Земля центр вселенной, и Солнце и другие небесные тела вращаются вокруг Земли. Это вера принималась как факт в древности и в Средние века. И он легко «подтверждался» тем, что́ люди видели. «Однако со времен Коперника новые теории изменили старые факты» (ibid., р. VIII).
Это типичный позитивистский взгляд на ситуацию. Видимо, Уолц не подумал о том, что Коперник вряд ли стал создавать новую теорию из праздного любопытства. В те времена (конец XV – середина XVI в.), в период географических открытий требовались новые приборы и точная картина неба. Моряки, прежде всего португальцы, стали замечать, что расположение звезд и прочих светил не совпадает с их обозначением на картах, созданных Птоломеем на основе его труда «Альмагест». Это становилось все более очевидным по мере развития математики в Европе и с созданием более совершенных приборов (большая заслуга в этом принадлежит не очень известным ученым-математикам Пурбаху и его ученику Региомонтану) [61]. Таким образом, общественная потребность и все новые факты, противоречившие старой теории, потребовали новых теорий. Естественно, свою роль могли сыграть и личные качества Коперника, который, по словам одного из исследователей его творчества, совершил революционное изменение по причине «чистой эстетики и философии». Возможно, но это не так важно. Важно то, что если бы не он, так другой совершил бы аналогичный переворот, поскольку этого требовало время, время Возрождения, время начала великих открытий в истории человечества. Другими словами, не сами по себе новые теории изменили старые факты, а именно новая эпоха с новыми потребностями изменили старую теорию. Позитивисты же рассматривают взаимосвязи теорий и фактов совсем не в той плоскости, точнее, в отрыве от исторического времени и тогдашнего бытия. И такие вневременные факты они, включая Лакатоса, приводят постоянно.
Между прочим, сам Коперник в знаменитом труде «Об обращении небесных сфер» (De revolutionibus orbium coelestium) писал:
Таким образом, мы просто следуем Природе, которая ничего не создает напрасно и избыточно, часто предпочитает наделить одну причину многими последствиями [62].
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу