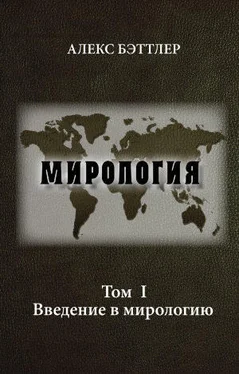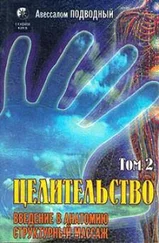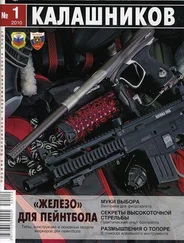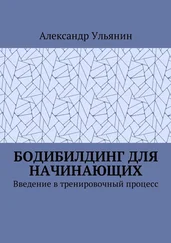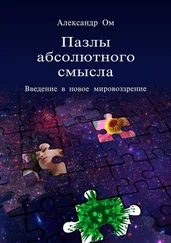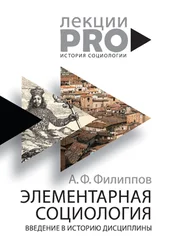И далее идет восхищение рассуждениями Ницше о «деревьях, цвете, снеге и цветах», которые являются вещами сами-по-себе, но все еще воспринимаются как метафоры, «которые не соответствуют действительным целостностям» (р. 10). Или такой поэтический пассаж против «реалистов» из его «Веселой науки»:
Вот эта гора! Вон то облако! Что в них «действительного»? Стряхните же однажды с них иллюзию и всю человеческую примесь, мои трезвые друзья! Да если бы вы только смогли это! Если бы вам удалось забыть ваше происхождение, ваше прошлое, ваше детство – всю вашу человечность и животность! Для вас не существует никакой «действительности» – да и для вас тоже, мои рассудительные друзья (p. 11).
И вот этот пассаж, который Ницше написал с позиции «влюбленного художника», приводит к таким глубокомысленным выводам авторов статьи: «Способ, на основе которого мы воспринимаем и трактуем эти факты и феномены, зависит от точки зрения (а в данном случае правильнее было бы сказать – от местоположения), с каких мы их обозреваем» (ibid.). Неужели для столь банального вывода нужна была философия Ницше? Неужели и без всякой философии не ясно, что художник или поэт иначе воспринимает «горы и облака», чем ученый? И неужели, если кто-то эти же самые горы и облака назовет другими словами, они поменяют свою онтологическую сущность? Но именно к такому выводу приходят Блейкер и Чоу, когда пишут:
Борьба за лучший и справедливый мир только тогда может стать успешной, если он (мир) напрямую сопрягается с терминологией, на основе которой мы интерпретируем и представляем международные отношения (р. 17).
Подчеркиваю: речь идет не о понятиях и категориях, а именно о словах. Как было бы просто достигать мира всего лишь изменяя слова!
И все же при всей безрассудности такого подхода в нем есть некоторый смысл, когда речь идет о пропагандистском или идеологическом обрамлении политики. И здесь авторы даже сами употребили фразу – «язык обрамляет политику» (language frames politics). Например, агрессию или вторжение можно назвать помощью, и тогда, если следовать логике авторов, содержание политики тоже меняется. Точно так же обстоит дело, если выражение «свержение иностранного правительства» поменять на «освобождение от тирании», слово социализм поменять на тоталитаризм, а империализм на демократию, феодализм на коммунизм и т. д. Очень часто это срабатывает. На то и пропаганда. И действительно, получается, что стиль и слова «имеют значение». И конечно же, поведение на международной арене не может быть отделено от манеры и стиля. Но авторы заблуждаются, когда утверждают:
Надо признать, что эти факты имеют смысл только благодаря нашей интерпретации, которая, в свою очередь, воздействует на то, как мы политически воспринимаем окружающие нас факты и феномены (р. 17).
Авторы забывают известное изречение Талейрана, что «слова нам даны, чтобы скрывать наши мысли». Дипломатия – это искусство, или такая игра, в которой выигрывает часто не самый сильный, а самый хитрый, именно тот, кто словесными трюками усыпляет противника. Все это настолько банально, что неслучайно профессиональные теоретики даже не обсуждают эти азбучные истины и тем более не выводят их на уровень неких философских мудростей, от которых надо отталкиваться в своем поведении и словесном выражении.
Вообще-то не знать об этом для англоязычных политологов и социологов непозволительно, если иметь в виду, что Джордж Оруэлл довольно подробно описывал подобные явления в своем знаменитом эссе «Политика и английский язык». Напомню. В нем он писал: «Все проблемы являются политическими проблемами, а политика сама есть масса лжи, уверток, глупости, ненависти и шизофрения» [45]. И он на многих примерах показал, как слова «защищают незащищаемое», как ложь выдается за правду и как убийство становится респектабельным действом. Показал он и метод сокрытия смысла слов. Для этого обычно используются латинские слова, которые «покрывают факты как снежок, размывая четкость и скрывая детали», а также абстрактные термины взамен конкретных слов (ibid.).
Интересно, что известный американский лингвист Джордж Лакофф все эти языковые хитрости воспроизвел на современном материале при сравнении политического языка демократов и республиканцев. К примеру, когда речь идет о бюджетных проблемах последние употребляют слова налоги (taxes) и расходы (spendings), в то время как первые предпочитают говорить о доходах для инвестиций (revenues for investments). Республиканцы, как правило, выражаются конкретно, демократы – абстрактно. Если же речь идет в целом о внешней политике, то, скажем, слово убивать (to kill) применяется для описания действий врагов по отношению к США. Аналогичные действия Америки против врагов обозначаются таким эвфемизмом, как кинетическая акция. Или, как однажды выразился Барак Обама, «летальные, целевые действия против Аль-Каиды и связанных с ней сил» [46]. И во всем этом нет ничего удивительного. Задача политика заключается в том, чтобы достичь целей, используя в том числе и языковой арсенал.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу