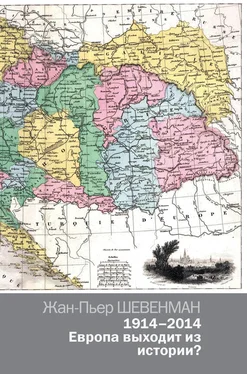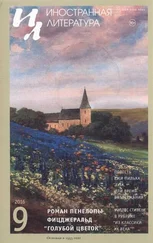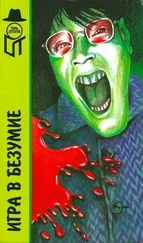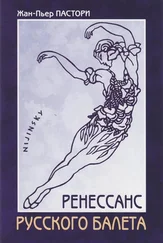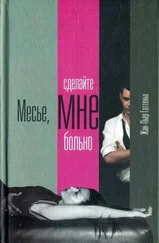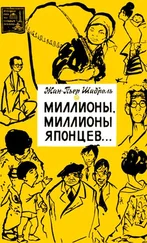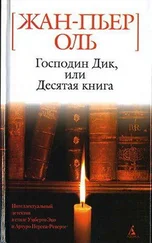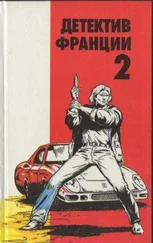Не стоит сводить причины войны к «эскалации союзных обязательств». У нас в руках есть нить Ариадны, которую можно распутать, обратившись к переписке между главой немецкого Генерального штаба фон Мольтке и его австрийским коллегой Конрадом фон Хётцендорфом. Ему практически приказали вторгнуться в Сербию. Это, по некоторым свидетельствам, признал сам Бетман-Гольвег, который 24 февраля 1918 г. якобы заявил: «Боже мой, да, в некотором смысле это была превентивная война… Но если война была неизбежна, […] и если военное командование – да, военное командование! – говорило, что сегодня мы еще можем в нее вступить и не быть разбитыми, а через два года уже будет поздно…». Он продолжал: «Этой войны можно было бы избежать, лишь заключив соглашение с Англией» [48]. Ту же мысль в своем дневнике сформулировал советник канцлера Рицлер.
Если взглянуть с противоположной стороны баррикад, следует констатировать, что нарушение нейтралитета Бельгии стало важнейшим поводом, но не глубинной причиной вмешательства Великобритании: она вступила в войну прежде всего из страха, что, одержав верх, Германия установит на континенте свою гегемонию. Этот страх лишь усиливался укреплением ее морской мощи – по закону, принятому Рейхстагом в 1912 г., Второй Рейх рассчитывал обзавестись 33 броненосцами и линкорами, лишь часть из которых (тринадцать линкоров класса «дредноут») успела сойти со стапелей к 1914 г. Когда 30 июля 1914 г. Вильгельм II осознал, что не может рассчитывать на нейтралитет Англии, он воскликнул: «Выбор между войной и миром целиком лежит на совести Британии! Это не мы! Германия была окружена! Против нее задумали войну на уничтожение! Германия должна была погибнуть… Эдуард VII, даже после того как умер, сильнее меня, живого» [49]. Как пишет Фриц Фишер, «им овладела давняя идея, которую он лелеял уже несколько десятилетий: уничтожить Британскую империю, спровоцировав восстание мусульманских народов… 30 июля был начат новый раунд переговоров с Турцией, которая должна была стать базой для партизанской войны против Англии» [50].
Конечно, следует разделять непосредственные поводы, которые привели к началу войны и, кажется, вполне ясны, и ее глубинные причины. Катаклизм такого масштаба не мог разразиться из-за козней или недомыслия нескольких человек. Чтобы он все-таки произошел, требовалось долгое нагнетание противоречий самого разного рода. Глубинные причины Первой мировой войны лежат в сфере экономического, коммерческого и финансового соперничества между державами, но не стоит забывать и об одном политическом факторе: конечно, в части политических кругов Германии было распространено убеждение, что из-за противодействия других держав ей самой предстоит (если понадобится, с помощью силы) отстоять свое «место под солнцем»; в то же время Британия опасалась нового «континентального блока» (теперь под немецкой эгидой), который напоминал ей о блокаде, устроенной за век до того Наполеоном. Дэвид Ллойд Джордж, тогда занимавший пост канцлера казначейства, казался всем пацифистом, но 11 июля 1911 г. в своей речи в Мэншн-хаусе заявил: «Если обстоятельства сложатся так, что мир можно будет сохранить лишь ценой отказа Англии от ее лидирующего положения […], такой мир любой ценой будет не чем иным, как унижением, которое такая великая страна снести не может» [51]. Ошибка лидеров Второго Рейха состояла в том, что они недооценили опасения Великобритании и, как позже признал Бетман-Гольвег, переоценили собственные силы в сравнении с мощью противника. Не гарантировав нейтралитета Англии, немецкие лидеры пошли на риск скорого вмешательства США (1917 г.), превративших европейскую войну в подлинно мировую.
«Франко-немецкий учебник», или Искусство экивока
Поразительно, что взгляды Франции и Германии на то, кто несет непосредственную ответственность за разжигание Первой мировой войны, с тех пор сблизились лишь незначительно. Похоже, что обе стороны просто решили этот сюжет не затрагивать. Так, франко-германский учебник для второго года лицея [52], сделанный в принципе вполне добротно, в политкорректном духе выносит этот вопрос за скобки: «Больше никому не приходит в голову возлагать на Германию и ее союзников (Австро-Венгрию) всю полноту ответственности за начало войны, как это было сделано в 231-й статье Версальского договора» [53]. Такая оценка не может не сказаться на всем последующем изложении. Учебник упоминает «мировое соперничество империалистических держав», «складывание двух противоборствующих альянсов» и «русско-австрийское соперничество на Балканах» и этим ограничивается. Он ничего не говорит о том, что союз Германской и Австро-Венгерской империй (1879 г.), а затем Тройственный союз Германии, Австро-Венгрии и Италии (1882 г.) сложились раньше альянса Франции и России (1894 г.). Что еще важнее, он вовсе не упоминает вопрос о гегемонии на континенте, который заставил Англию вмешаться в войну после нарушения нейтралитета Бельгии в соответствии с планом Шлиффена. Словно это одно из табу, которые еще слишком рано снимать. Учебник не объясняет, что, собственно, привело к «Сердечному соглашению» Франции и Британии в 1904 г., а потом к созданию тройственной Антанты – Англии, Франции и России в 1907–1908 гг. Его авторы, на мой вкус, несколько неуклюже переносят акцент на амбиции России по отношению к проливам, на дестабилизирующую роль «югославизма» в Австро-Венгрии и преступления, совершенные сербами во время Балканских войн, а преступления других сторон оставляют за скобками.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу