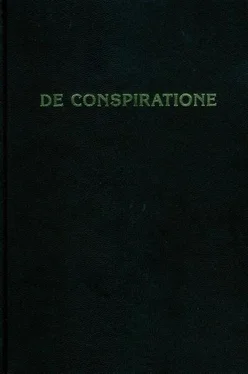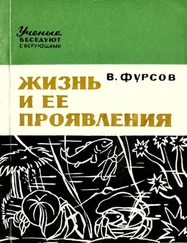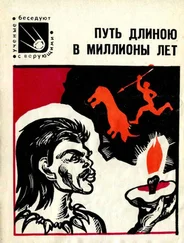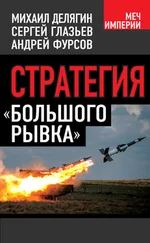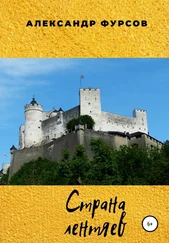Я прекрасно понимаю, что по объему указанная тематика тянет на несколько толстых монографий или огромный трактат, и возможно когда-нибудь они и будут написаны. Однако в данный момент имеет смысл поступить иначе — так, как это сделал У. Ростоу со своей самой известной и наиболее читаемой работой «Стадии экономического роста» (1961 г.). В предисловии к ней он написал: «Взгляды, выраженные здесь, могли бы быть разработаны в обычной форме научного трактата большого объема с большим числом подробностей и большой академической изысканностью. Но должна быть некоторая польза и в кратком и простом изложении новых идей» [13] Ростоу У.У. Стадии экономического роста. Нью-Йорк: Фредерик А. Прегер, 1961. С. 8.
. Разумеется, сжатость очерка не позволяет избежать некоторой схематичности, минимума в ссылках и т. п., но это издержки жанра, которые должны исчезнуть при превращении очерка в серию книг. Ну а начну я, естественно, с теории, с восхождения от абстрактного к конкретному — с теоретического обоснования не просто существования, а центральной роли КС в капсистеме — роли, обусловленной тем, что именно эти структуры снимают важнейшие противоречия капитализма как системы, являясь одновременно его «волей и представлением».
3. Конспироструктуры как имманентная форма развития капитализма
В экономическом плане капитализм — цельно-мировая, наднациональная система, мировой рынок не знает границ; его locus standi и field of employment, как сказал бы Маркс, — мировой рынок, мир в целом. А вот в политическом плане капсистема — это не целостность, а совокупность, мозаика государств, их международная (international) организация, т. е. организация национальных государств. Это одно из серьезнейших противоречий капитализма — противоречие между капиталом и государством, мировым и национальным (государственным).
К середине XIX в., по мере превращения капитализма в целостность, в систему-для-себя или, как сказали бы марксисты, в формацию, т. е. с обретением им адекватной ему материальной (вещественной) базы — индустриальных производительных сил, капитализм получает прочный производственный фундамент. Но индустриальные производительные силы носят региональныйхарактер, будучи сконцентрированы в зоне Северной Атлантики, тогда как производственные отношения носят мировойхарактер, вступая в противоречие с государственно-политическими формами и стремясь взломать их. Так противоречие между целостным мировым характером экономики и суммарно-мозаичным национальным характером государственно-политической организации обретает еще одно измерение: мировые производственные отношения (и их персонификаторы) противостоят не мировым, а региональным производительным силам и не мировым же, а национальным государственно-политическим структурам — и их персонификаторам. В результате, во-первых, интересы государств оказываются, как правило, тесно связанными с таковыми промышленников, капиталов реальной, «физической», как сказал бы Л. Ларуш, экономики, а интересы финансистов объективно противостоят и тем, и другим. Разумеется, реальность сложнее, для нее порой характерны различные выверты и комбинации, хитрые переплетения линий вероятности, обусловленные конъюнктурой, обстоятельствами — как историческими, так и семейно-личностными (это хорошо показали в своих романах О. Бальзак, Э. Золя и др.). И тем не менее названное выше базовое противоречие и способы (формы) его снятия остаются определяющими всю эволюцию, всю моторику капитализма. Но мы немного забежали вперед.
У крупной буржуазии, в какой бы стране она ни жила (особенно если это крупная страна), прежде всего у ее финансового сегмента, всегда есть интересы, выходящие за национальные рамки, за пределы государственных границ — своих и чужих. И реализовать эти интересы можно только нарушая законы — своего государства или чужих, а чаще и своего, и чужих одновременно. Причем речь идет не о разовом нарушении, а о постоянном и систематическом, которое, следовательно, должно быть как-то оформлено. Ведь одно дело, когда капиталу противостоит слабая или даже не очень слабая полития в Азии, не говоря уже об Африке — здесь достаточно силового варианта «дипломатии канонерок». А как быть в мире равных или относительно равных: Великобритания, Франция, Россия, Австрия, со второй половины XIX в. — Германия, США? Это совсем другое дело. Здесь уже так просто не забалуешь, нужно не огнестрельное, а организационное оружие, которое оформило бы интересы капиталистических верхушек различных государств, сняло их противоречия с государством и стало бы выражением их целостных (вне- и наднациональных) и долгосрочных интересов.
Читать дальше