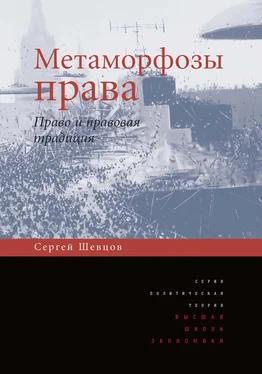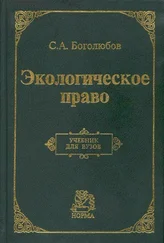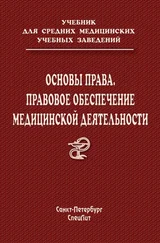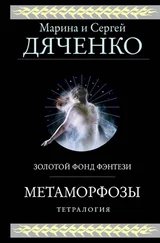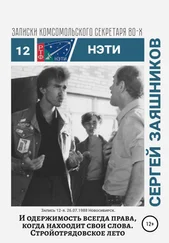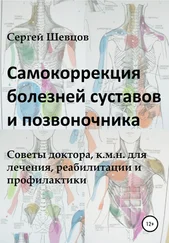Например, вспоминаются знаменитые слова А.И. Герцена: «Полное неравенство перед судом убило в нем (русском народе. – С. Ш .) в самом зародыше уважение к законности. Русский, к какому бы классу он ни принадлежал, нарушает закон всюду, где можно сделать это безнаказанно; точно так же поступает правительство. Это тяжело и печально для настоящего времени, но для будущего тут огромное преимущество» [13] [Герцен, 1956, с. 251].
. Словам этим, написанным в 1850 году, вторит современная поговорка: «У государства сколько ни воруй – своего не вернешь». Жаль, конечно, что будущее, о котором говорит А.И. Герцен и у которого столько преимуществ, почему-то так и не настало за 160 лет.
Но в противовес первому списку можно представить не менее внушительный список тех, кто оценивает право высоко – и в нем мы будем встречать часто те же имена. Один пример: знаменитый роман Ю.О. Домбровского «Факультет ненужных вещей» (понятно, факультет юридический) разворачивает удручающую правовую картину, но можно ли сказать, что он выступает против права? Напротив, он как раз утверждает ценность права. И то же в равной степени можно сказать о А.И. Солженицыне и еще о многих. Авторы фиксируют несостоятельность или «неправость» существующего правового состояния, но это оказывается возможным только за счет противопоставления этому «внутреннего правового чувства» (как называл это Р. Иеринг). То есть неверие в позитивное право часто спаяно с верой в право идеальное, должное.
Тогда речь идет не о негативном отношении к праву вообще, а об отсутствии веры в то, что действующее право может быть справедливым. И здесь сразу возникают варианты истолкования. Во-первых, это может быть просто критика существующей системы права, в той или иной мере она присуща любому обществу, а в правовом обществе подобная критика особенно заметна за счет наличия демократических свобод. Во-вторых, здесь нужно зафиксировать признание наличия права и определенное уважение (или страх) к нему. Тогда это не негативное отношение к праву, а негативное отношение к власти, к государству и в конечном итоге к самому себе, форма сокрытия собственного бессилия изменить ситуацию (политическую или правовую). Наконец, в-третьих, это может быть действительное негативное отношение к праву вообще, но выраженное опосредованно, через отношение к действующему праву. И нельзя исключать соединение всего вместе, плюс еще что-нибудь.
Если нам мало чем может помочь литература, то в еще меньшей степени прояснит дело социологический опрос или другие подобные формы изучения общественного мнения. И дело не только в том, что аргументы П. Бурдье, согласно которому «общественного мнения не существует» [14] [Бурдье, 2007б].
, представляются весьма убедительными. Если даже серьезные мыслители, часть из которых была названа выше, стремившиеся к возможно полному и глубокому продумыванию своей позиции и форм ее выражения, тем не менее допускают множество различных, а иногда и противоположных, толкований, то как можно требовать точной фиксации своего внутреннего чувства у того, кто не обязан был проделать работу по очистке и обработке своей мысли, а просто согласился участвовать в опросе? В конечном итоге результаты будут зависеть всецело от того, как составить опросный лист.
3. Есть еще один путь – можно обратиться к изучению народного творчества: пословицы, поговорки, анекдоты, загадки, сказки, былины, песни, частушки открывают широкое поле для исследования ментальности. Надо сказать, что такие исследования проводились – о некоторых речь еще впереди. Но и это едва ли даст нам желаемую достоверность. Предположим, что мы исследовали все возможные источники и получили результат в высшей степени обнадеживающий: 100/1 в пользу негативной оценки права. Опять-таки надо для сравнения проделать ту же работу в отношении некоторых других народов или стран. Но и после этого результат может быть истолкован самым различным образом: случаи неправого суда более привлекательны для рассказа и распространения, чем случаи справедливого и честного решения; мошенник, плут и вор – более распространенные персонажи фольклора, чем честный судья или постовой. Отрицательный герой предоставляет множество вариантов для разворачивания сюжета, в то время как герой положительный всегда действует одинаково и достаточно скучен, поэтому его можно удерживать в центре внимания только за счет разворачивающейся вокруг него интриги, в которую он втянут, но в которой по своей воле участия бы не принимал (это отлично знают авторы сериалов – у них всегда большие трудности с положительными героями). Положительный герой – фигура эпическая, придать ему черты обычного человека очень непросто. В сказках главная фигура – дурак или простак, т. е. люди с девиантным поведением, а если героем оказывается человек вполне нормальный (Иван-Царевич, Василиса Премудрая и т. п.), то и им ради сюжета приходится идти на обман и плутовство, а иначе – о чем рассказывать?
Читать дальше