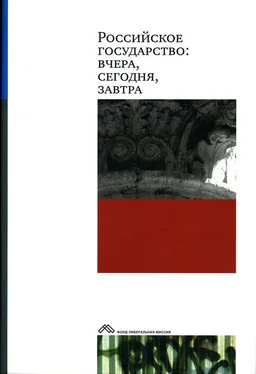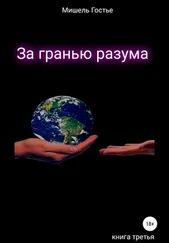Теперь о государственном строе. Суверенитет и право на осуществление всех властных полномочий исходят из сакрального источника, а не из идей о «делегировании полномочий» народом своему избраннику (избранникам). На власть нужна санкция Высшего Судии. Большинство русских консерваторов считает монархический принцип более эффективным и более соответствующим духу Священного Писания, нежели республиканский. Соответственно, форма организации власти должна быть максимально персоналистичной – самодержавная монархия, несколько смягченная рядом представительных учреждений. Она ограничивается также принципом гражданского неповиновения государству, если оно идет против веры; этот принцип изложен в современной социальной концепции Русской православной церкви.
Два мирных метода перехода к монархическому устройству власти от нынешнего государственного строя таковы: референдум и последующее венчание на царство или просто венчание на царство уже избранного народом президента. Революционный захват власти, как уже говорилось, неприемлем. Очевидно, исключительно важным становится в этой системе принцип престолонаследия. Он должен определяться не только традицией «крови», но и более сложными соображениями – например, способностью монарха отправлять свои обязанности, его возрастом, физическим и душевным здоровьем, вероисповеданием. Поэтому уместно использование мобильной и динамичной византийской системы, уходящей корнями в позднеримские политические устои.
Это означает введение соправительства. Попросту говоря, монарх-«август» сидит в Москве, в то время как его соправители-«кесари» могут осуществлять правление крупными региональными единицами – скажем, совокупностью дальневосточных регионов России. При этом они ограничены во власти правами и первенством «августа», а также тем, что территории для осуществления власти «кесарями» формируются ситуативно, по мере надобности; они не имеют постоянных органов власти. При кончине «августа» у него всегда есть живой дееспособный преемник – «кесарь».
Принцип парламентарной демократии вместе с принципом «сдержек и противовесов» навсегда уходит из высших эшелонов политической организации страны. На местах остаются назначаемые из центра «губернаторы», т. е. те же «воеводы», как это и было установлено при Путине, а власть выборных органов резко сокращается. Для нее достаточно будет границ, предложенных еще в ХIХ веке в проекте министра внутренних дел Н.П. Игнатьева. Это значит: Госдума и заксобрания становятся законосовещательными органами. Их функции приравниваются к функциям земских соборов: консультирование стратегического центра во главе с монархом и выдвижение законопроектов. То же самое происходит на региональном уровне во всех нынешних субъектах Федерации. Собственно, федерализму приходит конец. Он уступает место унитаризму.
Зато на локальном уровне государственное чиновничество, судейские люди и органы внутренних дел уступают бо́льшую часть своей власти институтам самоуправления. Причем нынешний районный уровень – слишком крупный, слишком неудобный для решения простейших задач, хотя бы жилищно-коммунальных. Первичные властные ячейки должны быть сформированы на уровне более мелком, чем современный мегаполисный микрорайон; в идеале – до 1000 жителей для города и до 300 жителей для сельской местности. Здесь все знают всех, здесь ясно видны нужды общины, и здесь могут быть использованы разные формы самоорганизации народа, в том числе выдвижение старост (исполнительная власть), «голов» (с полномочиями шерифского характера, о чем неоднократно высказывался П. Данилин) и «сотских» для управления народным ополчением (необходимость его формирования обоснована М. Ремизовым). От этих локальных структур должно выбирать должностных лиц на районный уровень, а там – на муниципальный, где они будут делить власть с «воеводой» пониже рангом, чем региональный.
Таким образом, если на высших уровнях власти демократия будет в значительной степени урезана, то на нижних установится господство чистой, беспримесной демократии. Как в эллинских полисах.
Автор этих строк сознает, что его предложения идут вразрез со всей политической философией евроамериканского мира со времен эпохи Просвещения. Так и бес с ней.
Максим Артемьев
Слабость демократии и утопии ее противников
(О «русском консерватизме» Дмитрия Володихина и необходимости конституционной реформы)
Читать дальше