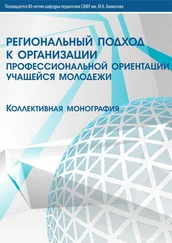«Действительно, в демократиях народ, по-видимому, делает, что хочет. Но политическая свобода состоит совсем не в том, чтобы делать то, что хочется. В государстве, т. е. в обществе, где есть законы, свобода может заключаться лишь в том, чтобы иметь возможность делать то, чего должно хотеть, и не быть принуждаемым делать то, чего не должно хотеть. Необходимо уяснить себе, что такое свобода и что такое независимость. Свобода есть право делать все, что дозволено законами. Если бы гражданин мог делать то, что этими законами запрещается, то у него не было бы свободы». См.: Монтескье Ш. Указ. соч. С. 288–289.
Монтескье Ш. Указ. соч. С. 288.
Монтескье Ш. Указ. соч. С. 316–317.
Монтескье Ш. Указ. соч. С. 317.
Ф. Ф. Кокошкин в этой мысли еще более прямолинеен: «Исходным пунктом для Монтескье, как и для Руссо, служит идея свободы личности, но, в отличие от автора «Общественного договора», он понимает свободу не как участие в государственной власти, а как обеспечение от ее произвола. Другими словами, в основу своего построения он кладет не политическую, а так называемую гражданскую свободу (хотя сам Монтескье называет ее «политической»)». См.: Кокошкин Ф. Ф. Лекции по общему государственному праву / Под ред. и с предисловием В. А. Томсинова. М., 2004. С. 204.
В полной мере можно согласиться с суждением И. А. Полянского и В. В. Комаровой: «смысл принципа «разделения властей состоит, в первую очередь, не в разграничении функций, а в недопущении средоточия всей власти в одной из ее ветвей, установления ее «единовластия», а говоря иначе – диктатуры. Естественно, принцип «разделения властей» не действует автоматически: он нуждается в средствах обеспечения в виде определенных правовых гарантий и механизмов – в системе сдержек и противовесов. Таким образом, принцип «разделения властей» по изначальному своему предназначению есть заслон, преграждающий путь к превышению власти, произволу и авторитаризму. Таковой остается его суть и в нынешние времена. Только при таком значении «разделение властей» представляет собой демократический принцип, обеспечивающий действительное единство государственной власти и нормальное (цивилизованное) разделение и взаимодействие всех трех ее ветвей». См.: Полянский И. А., Комарова В. В. Реализация принципа разделения властей в Российской Федерации. Государственная власть и местное самоуправление. 2001. № 1 /Опубликовано в Справочной правовой системе «Консультант Плюс».
Монтескье Ш. Указ. соч. С. 289.
Монтескье Ш. Указ. соч. С. 298.
Монтескье Ш. Указ. соч. С. 290–291.
«Представление Монтескье о трех самостоятельных властях, по их мнению, противоречит понятию единой юридической личности государства и понятию государственной власти как единой воли. Еще более энергичные возражения, с этой точки зрения, вызывала формула Канта, у которого три власти являются тремя отдельными субъектами, образующими вместе одно лицо – государство. Критики не без основания говорили, что «триада Канта» есть догмат, непостижимый для человеческого разума.
Но возражение это справедливое, поскольку оно касается Канта, совершенно не попадает в цель, когда оно направляется против Монтескье. Ошибка немецких критиков заключается в том, что, исходя из установившегося в немецкой юриспруденции понимания слова «власть», они приписывают то же понимание и Монтескье, не считаясь с его собственной (и вообще французской) терминологией и, таким образом, критикуют теорию французского мыслителя не в ее подлинном виде, а в той формулировке, которую они сами ей дают. Монтескье, вообще, рассматривает вопрос о разделении властей с политической стороны и не задается целью дать юридическую конструкцию государственной власти и соотношения ее функций и органов. Но поскольку мы можем проследить его юридические представления, они совершенно не таковы, какими являются в изображении его критиков.
Монтескье вовсе не представляет себе три власти в виде трех самостоятельных субъектов или трех отдельных воль государства. Слово «власть» он понимает иначе, чем немецкие юристы, и понимает более правильно с юридической точки зрения. Под властью… он разумеет не особое юридическое лицо и не волю, а: 1) в прямом смысле – известного рода субъективное право государства; 2) в переносном смысле – осуществляющий это право орган. С этой точки зрения, в идее разделения властей нет никакого противоречия». См.: Кокошкин Ф. Ф. Лекции по общему государственному праву /Под ред. и с предисловием В. А. Томсинова. М., 2004. С. 219.
Читать дальше
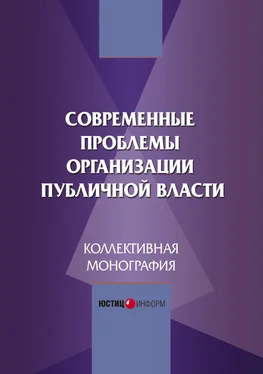






![Коллектив авторов - Все в прошлом [Теория и практика публичной истории]](/books/430176/kollektiv-avtorov-vse-v-proshlom-teoriya-i-praktika-thumb.webp)