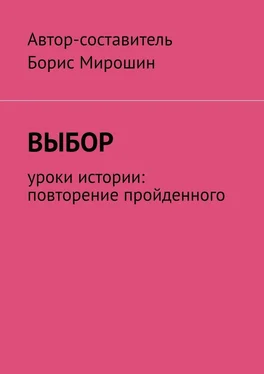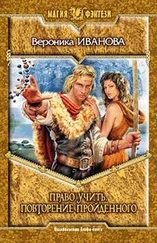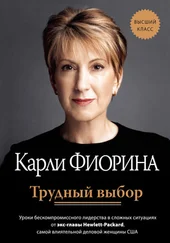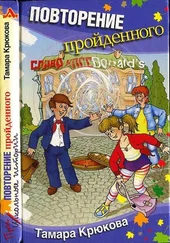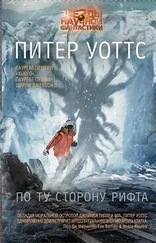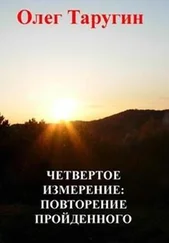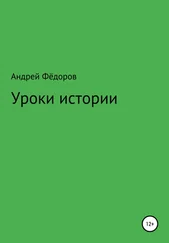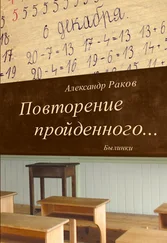Складывалась парадоксальная ситуация. С одной стороны, все члены ЦК дружно, единогласно проголосовали за проект Конституции, но с другой никто из них не выступил открыто в ее поддержку, пропагандируя достоинства демократии и парламентаризма по-советски, разъясняя их населению страны, неискушенному в знании, понимании обретенных прав. Разумеется, окружение Сталина должно было оценить положение, в котором оказалось. Оценить и выработать ответные меры – в соответствии с навязанными им правилами игры.
Всю первую половину 1936 г. Сталин и его окружение проводили своеобразную внутреннюю политику, сохраняя, но в латентной форме и в минимальных масштабах, жесткое отношение к бывшим активным сторонникам Троцкого и Зиновьева. В январе с обвинения в контрреволюционной и террористической деятельности более ста человек из Горького, Москвы, Ленинграда, Киева, Минска, началась волна репрессий.
Большой эффект произвело решение Политбюро, принятое по предложению Ворошилова и опубликованное как постановление ЦИК СССР – «О снятии с казачества ограничений по службе в РККА». Своеобразная массовая реабилитация не ограничилась лишь крестьянством и казачеством. Были отменены все «установленные при допущении к испытаниям и при приеме в высшие учебные заведения и техникумы ограничения, связанные с социальным происхождением». Известных инженеров, осужденных на десять лет по делу «Промпартии», не просто вдруг помиловали, но и «восстановили их во всех политических и гражданских правах». Опубликованное как постановление Президиума ЦИК СССР, оно стало весомой пропагандистской акцией, призванной повлиять на настроения технической интеллигенции.
Всеми этими решениями и постановлениями Сталин стремился к главной своей цели: принципиально изменить массовую базу избирателей. Загодя, еще до принятия новой Конституции и основанного на ней избирательного закона, он хотел предельно расширить круг лиц, кому вернули гражданские права, отбиравшиеся начиная с 1918 г. Продолжая одновременно репрессии по отношению к «врагам» партии и государства.
Опираясь на подготовленный Ягодой и Вышинским список подлежащих аресту 82 троцкистов, подозреваемых в терроризме, Политбюро в июне дало поручение НКВД подготовить процесс над троцкистами и зиновьевцами. Ими оказались зиновьевцы – сам Зиновьев, Каменев, Евдокимов, Бакаев, уже второй год отбывавшие срок заключения, и троцкисты – Мрачковский, Смирнов, еще в 1933 г. осужденные на пять лет, Тер-Ваганян, в мае 1935 г. высланный в Казахстан. Вторую группу подсудимых составляли арестованные за месяц или два до процесса бывшие оппозиционеры – Дрейцер, Рейнгольд, Пикель, Гольцман.
Такой подбор подсудимых, представших на августовском процессе, призван был продемонстрировать советскому народу ту «жалкую роль», к которой «скатились» те, кто всего десять лет назад возглавлял партию и страну. Продемонстрировать, кроме того, партократии, отвергшей предложение Сталина на Пленуме, чего следует ожидать и им в случае дальнейшей конфронтации.
И всё же августовский процесс выглядел слишком символичной акцией. Страшной, но всего лишь безадресной угрозой всем, а потому никому. Ведь и Зиновьев, и Каменев, и Евдокимов, и Бакаев, несмотря на свою известность, даже популярность в определенных партийных кругах, давно выпали из политической жизни. Главной же целью задуманной акции оставалось прямое воздействие на членов ЦК, делегатов предстоящего Всесоюзного съезда Советов. Потому-то Сталин решил нанести еще один удар, более действенный. По тем, кто в прошлом играл значительную роль в оппозиции, преимущественно троцкистской, а ныне занимал ответственные посты.
Тихо, без огласки арестовали – по показаниям Зиновьева! – первого заместителя наркома тяжелой промышленности Пятакова, заместителя наркома лесной промышленности Сокольникова, замначальника Судортранса Серебрякова, заведующего Бюро международной информации ЦК Радека, заместителей командующих войсками военных округов: Ленинградского – Примакова, Харьковского – Туровского, военного атташе в Великобритании Путну, заместителя наркома путей сообщения Лившица, начальника Главхимпрома НКТП Ратайчака, первого секретаря ЦК компартии Армении Ханджяна, а также других.
Все они оказались своеобразными заложниками. Их, как то было четыре-пять лет назад, могли после допросов вскоре освободить, понизив в должности, выведя из ЦК и ЦИК СССР. Но могли и сделать подсудимыми ближайшего открытого процесса – всего лишь в зависимости от обстоятельств, от дальнейшего развития событий.
Читать дальше