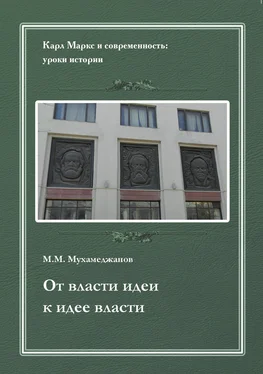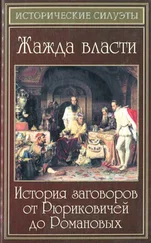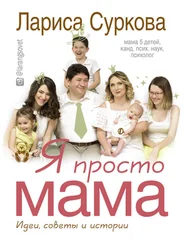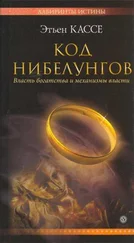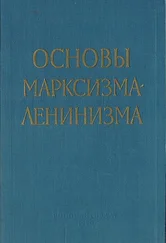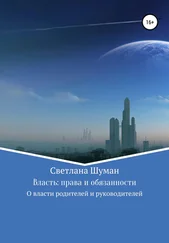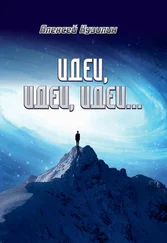Конфликт в коллективе разрастался. 29 декабря 1929 года секретарь парт-ячейки Кара-Иванов подал заявление об увольнении из Института, направив его в Хамовнический райком партии, Центральную контрольную комиссию. Следовательно, это было не заявление об увольнении, а жалоба. Заявитель выдвинул против Рязанова целый набор обвинений, сущность которых сводилась к тому, что директор всемерно мешает работе партийной организации. Главный пункт обвинения был, по сути дела, политическим доносом: «Его отношение к контрреволюционным элементам, к работающим в институте троцкистам открыто благосклонное. С благосклонным содействием Рязанова они превращают институт в гнездо оппозиции» 96 96 РГАСПИ. Ф. 374. Оп. 1. Д. 11. Л. 58.
. Таким образом, был дан сигнал в вышестоящие партийные органы. Рязанов сделал ответный ход, подав заявление в бюро ячейки партии (копию – в Хамовнический райком), в котором было написано: «Не считая для себя возможным состоять членом ячейки, в бюро которой выбраны товарищи, в течение нескольких месяцев проводившие кампанию лжи и клеветы против дирекции Института вообще и против меня, в частности, заявляю о своем выходе из ячейки. Вместе с тем возбуждаю ходатайство перед Московским комитетом о причислении меня к другой ячейке» 97 97 Там же. Л. 59.
.
1 февраля 1929 года Оргбюро ЦК ВКП(б) обсуждало состояние дел в Институте Маркса и Энгельса. В принятом постановлении поручалось Московскому комитету и Хамовническому районному комитету партии усилить руководство ячейкой ИМЭ и принять все меры к установлению внутри института нормальных отношений между дирекцией, партячейкой и месткомом. Было решено также «усилить и освежить» коммунистический состав Совета института и коллектива в целом, подобрать секретаря ячейки, имея в виду особенности работы в Институте. В адрес дирекции указывалось, что ей необходимо наладить нормальные отношения с партячейкой и месткомом 98 98 Там же. Д. 1. Л. 35.
. Это указание касалось прежде всего директора Института.
Во исполнение принятого постановления Оргбюро ЦК партии перевело Ф. Ф. Козлова из Института Ленина в ИМЭ, в котором он был избран секретарем ячейки. Новый секретарь партийного бюро сыграл особую роль в антирязановской кампании 99 99 См. Рокитянский Я., Мюллер Р. Красный диссидент. М., 1996. С. 100.
. В соответствии с директивами ЦК ВКП(б) ученые-обществоведы должны были превратить академическую науку в орудие диктатуры пролетариата, поставить философию марксизма на службу задачам строительства социализма. Дирекция ИМЭ, прежде всего Рязанов, обвинялась в том, что институт оторван от современных практических задач, изолирован от пропагандистской партийной работы. Чистки неблагонадежных сотрудников продолжались. Бюро ячейки 30 июня 1930 года отметило, что в Институте имеется значительное число «уклонистов», вредно влияющих на нормальную партийную жизнь и отвлекающих силы от решения прямых задач 100 100 РГАСПИ. Ф. 374. Оп. 1. Д. 11. Л. 27.
.
Внутренний конфликт отнюдь не был решающим фактором в судьбе Института Маркса и Энгельса и его дирекции. Дело заключалось во взаимоотношениях Рязанова и Сталина, а отношения между ними были явно неблагоприятными для директора Института. Рязанов до революции состоял в меньшевистской партии, которая была в непримиримой оппозиции к большевикам. Вступив в 1917 году в РСДРП(б), он активно участвовал в партийной жизни, но по некоторым вопросам не соглашался с Лениным. После смерти вождя большевистской партии Сталин запретил Рязанову заниматься политической деятельностью, поскольку директор ИМЭ позволял себе критику в адрес генерального секретаря ЦК партии. Во фракционной склоке он не участвовал, к оппозиции не примыкал. В 1928 году Рязанов предпринял крайне рискованный шаг, предложив Л. Д. Троцкому участвовать в подготовке к изданию сочинений Маркса и Энгельса. Его знания марксизма, свободное владение иностранными языками, богатый редакторский опыт были нужны Институту, испытывавшему постоянный кадровый голод. О пользе Троцкого для издательского дела свидетельствует его письмо Рязанову в мае 1928 года из Алма-Аты. Сравнив перевод материалов первого тома сочинений с немецкого языка на русский, Троцкий пришел к следующему выводу: «Перевод выше средних советских переводов, но все же имеет крайне приблизительный характер. Та точность, которой можно и должно было достигнуть, не достигнута, причем в некоторых случаях трудно даже понять, почему перевод заменен пересказом, грамотным, добросовестным, но все же пересказом» 101 101 Троцкий Л. Дневники и письма / под ред. Ю. Г. Фельштинского. М., 1994. С. 32.
. Троцкий привел конкретные примеры неудачных переводов и поставил несколько вопросов технического характера. Письмо сугубо академическое, в нем нет никаких других вопросов. Несмотря на то, что в это время Троцкий был политически дискредитирован, исключен из партии и находился в ссылке, Сталин считал бывшего лидера оппозиции своим самым опасным врагом. Любая связь с Троцким в это время расценивалась как пособничество, а в годы большого террора служила обвинением в измене.
Читать дальше