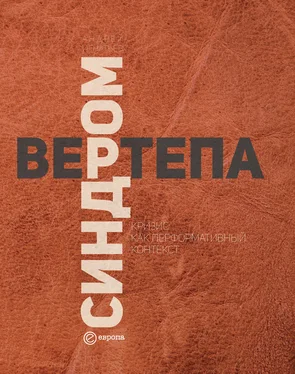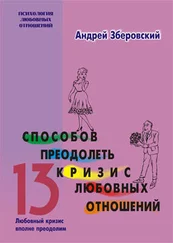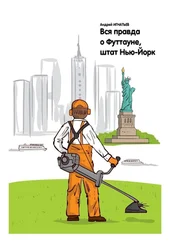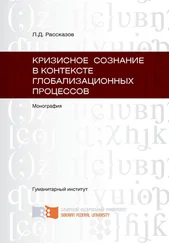Прежде всего, «теневые» практики социализации «чужого» неизбежно исключают любые «конститутивные» формы социального признания, когда вознаграждение за достигнутый результат, в данном случае, например, статус музыканта или перспективы его карьеры, определяет прежде всего соответствие этого результата каким-то объективным и универсальным критериям, а не чьему-либо партикулярному личному мнению, пусть даже сколько угодно просвещенному и авторитетному; наличие таких критериев, то есть институционализация экспертизы, собственно говоря, и конституирует профессию в ее отличии от коллектива наемных работников или клиентелы, где такая функция всегда персонифицирована. В случае «теневых» практик, напротив, идентификация достигнутого результата осуществляется в «континджентном» режиме [34] Collins H.M., Pinch T.J. The construction of paranormal: nothing unscientific is happening // On the Margins of Science: The Social Construction of Rejected Knowledge. Keele: Univ. Keele Press, 1979. Р. 237–270. В первом случае признание осуществляется как «экзамен», то есть проверка на соответствие каким-то заранее известным тестовым критериям, во втором – как «поединок», то есть конфликт в плохо структурированном и динамичном контексте.
, то есть непременно является предметом конфликта между индивидом, претендующим на успешное осуществление какого-то своего проекта, и представителем «властей предержащих», ответственным за осуществление функций надзора и контроля («смотрящим», как эту персону именуют в криминальных кругах); важнейшим из факторов, определяющих вознаграждение, статус и перспективу карьеры, становится уже не уровень достижений, оцениваемых публично и «по гамбургскому счету», а всякого рода приватные negotiations, это значит – корпоративные, дружеские и родственные «повязки» или даже коррупционные связи между музыкантами, производителями записей или их потребителями, с одной стороны, и конкретными субъектами господства, например чиновниками соответствующего ведомства [35] Могу об этом свидетельствовать как филофонист со стажем: в советское время любая серьезная домашняя фонотека предполагала либо регулярные зарубежные командировки, что само по себе было статусной привилегией, либо какого-нибудь близкого человека, родственника или приятеля, который такой привилегией обладал.
, с другой. Все это не только размывало границу, отделяющую «профи» от любителя, смелый вызов традициям – от обычного бытового хулиганства, а коррупцию – от легитимных форм оплаты труда [36] Строго говоря, для рок-группы, причем не только тут у нас, такая граница плохо определена до сих пор.
, но и способствовало дифференциации движения на два потока, связанные друг с другом очень сложными отношениями: «радикалов», для которых исходный предмет заимствований так и остался святыней [37] Тут кстати вспомнить питерский неофициальный музей группы The Beatles и его создателя.
, и «конформистов», которые не без успеха пытались адаптировать достижения «культовых» зарубежных рок-групп к идеологическим и вкусовым предпочтениям советских элит; итогом такого рода гибридизации стал формат «вокально-инструментального ансамбля», который обеспечивал идеологическую безупречность того, что звучало на сцене [38] Одним из косвенных, но в перспективе очень важных следствий такого порядка заимствований стала их сначала принудительная, а позднее и вполне добровольная русификация, которая отразилась как на текстах, так и (в меньшей, конечно, степени) на музыкальной форме. Полагаю, впрочем, что отчасти этот эффект связан с распространением английских школ, в результате которого английский язык постепенно утратил статус иного и странного (сейчас, говорят, аналогичным статусом обладают тюркские языки).
, одновременно предполагая, как залог профессиональной состоятельности музыкантов, их реальное владение новой музыкальной культурой.
Тем не менее, несмотря на все эти неудобства и особенности, теневые» практики обеспечивали достаточно хорошо структурированную перспективу социального признания и карьеры как перемещения в сети межличностных отношений зависимости («повязок», как принято их называть в определенных кругах), которые соединяют между собой индивидов, занимающих позиции с разным интерактивным статусом и разными функциями. В самом первом приближении эта перспектива карьеры выглядела примерно так: однажды в доме тинейджера, уже получившего какую-то локальную известность как музыканта (для конкретности пусть это будет гитарист, самая востребованная специальность в данной области), раздавался телефонный звонок, приятель несколько старше возрастом приглашал его взять свой инструмент и приехать в некое специальное место, в прежние времена такое место именовали «салон». Обычно это был загородный дом где-нибудь в «элитных» дачных поселках или же просторная частная квартира, расположенная в престижном районе, но могло быть и помещение какого-нибудь ресторана или кафе, где музыканта знакомили с неким господином зрелого или даже пожилого возраста, по статусу – почетного гостя или в этом роде, а по виду и манерам – из тех, кого называют «ответственные товарищи»; по результатам прослушивания музыканта либо отбраковывали вовсе, что случалось не так уж часто, либо включали в своего рода «кадровый резерв», то есть в круг тех, кто заслуживает поддержки, в дальнейшем либо продвигая в состав какой-то уже существующей рок-группы, либо помогая создать и продвигать новую [39] В данном случае подразумевается вполне реальная биография одной из «звезд» современной отечественной рок-сцены, однако она в достаточной степени типична и вполне может рассматриваться как парадигмальный образец карьеры.
, тем самым обеспечивался успешный start-up [40] Фабрика звезд, то есть программа на одном из федеральных телеканалов, существовавшая уже в «нулевые» годы, по сути дела, только имитировала эту стереотипную практику. Сходная практика, склонен думать, существовала и в других областях «неофициального» искусства, но это круг феноменов, о котором я не вправе судить – не мой предмет, и вообще.
, а это наиболее трудная стадия любой карьеры. Такого рода сценарий, хорошо узнаваемый каждым, кто наблюдал за процессом формирования какой-нибудь отечественной рок-группы и ее последующей эволюцией [41] В данном случае я опираюсь на результаты исследования, выполненного совместно с В. Ма-рочкиным и посвященного одной из наиболее заметных «семей» отечественного шоу-бизнеса. По разным уважительным причинам эти результаты не могут быть опубликованы, однако сценарий, реализованный при моем собственном поступлении в аспирантуру, мало отличался от неформального закулисного кастинга (ключевым событием было собеседование с покойным Леном Карпинским у него дома на Зубовском бульваре), более того – склонен думать, что пресловутый «эффект Матфея» является следствием такого же сорта практик. Карьера потребителя (например, меломана-филофониста) выстраивалась по очень похожему сценарию, только что критерии селекции претендентов на членство в сообществе были несколько иными.
, предполагает по меньшей мере пять характерных интерактивных амплуа, зависимости между которыми в совокупности образуют центральносимметричный перформативный контекст любой творческой карьеры: «герой», являющийся субъектом этой карьеры, «селекционер», осуществляющий мониторинг всякого рода площадок, где водятся «юные дарования», а также предварительную оценку шансов на социальное признание, которым обладает будущий музыкант с его специфическим «проектом», далее «инвестор», обладающий политическими и финансовыми ресурсами, необходимыми для поддержки музыканта и продвижения соответствующего проекта, «хозяйка салона», то есть площадки, на которой происходит встреча всех перечисленных действующих субъектов, обычно это женщина «со связями», которая организует встречу, выполняет функции эксперта и критика, а также обеспечивает успешные negotiations с «хозяевами жизни» различного сорта и уровня, наконец, «заинтересованная публика» в лице этих самых господ, осуществляющих патронаж над сферой культуры, или, по крайности, их доверенных лиц [42] По ходу исследования наши с В. Марочкиным информанты охотно рассказывали о «героях» и «селекционерах», то есть о себе самих, были немногословны и даже весьма осторожны, рассказывая об «инвесторах», о хозяевах «салона» удавалось узнать только случайно и на стороне или из личного опыта, а вот персоны «смотрящих» и даже самый факт их существования так и остались домыслом (гипотезой, если угодно). В наши дни какие-то функции «салона» перешли к социальным сетям в интернете, но это ничего не меняет.
. Это, конечно, только схема, которая заметно упрощает сценарий, реально наблюдаемый в биографии отдельных конкретных музыкантов, однако она вполне адекватно моделирует специфический ролевой комплекс, обеспечивавший эффективное заимствование «чужого» в условиях идеологического диктата, практики рекрутинга и социализации новичков, сложившиеся в «теневых» перформативных контекстах, а также необходимые исходные условия карьеры, которые ими диктуются.
Читать дальше