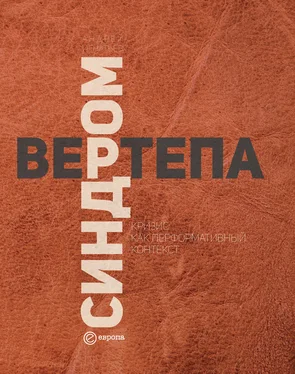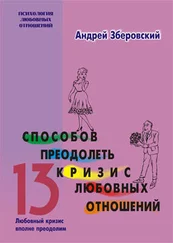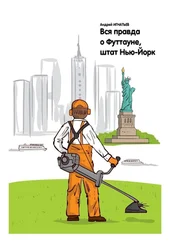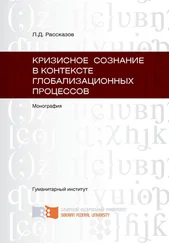1 ...8 9 10 12 13 14 ...30 Генезис этих новых форм досуга отнюдь не очевиден и заслуживает специального исследования, которое, сколько знаю, до сих пор не было предпринято, скорее всего, перед нами какая-то особая разновидность карго-культа, возникшего, предположительно, как следствие травматического опыта Второй мировой войны и послевоенной разрухи [23] См., в частности: Jeffrey C. Alexander. Trauma. A Social Theory. Cambridge: Polity Press, 2012.
, для советских людей по ряду причин оказавшегося в особенности тяжким. Тем не менее в данном случае гораздо более существенным является возникновение массового или, по крайней мере, достаточно распространенного спроса на «продукт», как теперь говорят, который был нешуточным вызовом не только отечественным, но и общеевропейским бытовым традициям. О характере и степени радикальности этого вызова можно судить по таким отечественным фильмам, как приснопамятная «Карнавальная ночь», появившаяся на экранах страны в самый канун нового 1957 года, или же «Взрослые дети» 1961 года, в которых наглядно показана роль этой новой музыки как маркера социальной границы между поколениями и, соответственно, фокальной точки их конфликтов, чем бы они ни были вызваны и кто бы в них ни был прав. В более широком контексте изменений или конфликтов, связанных с XX съездом партии, маркеры социальных границ между поколениями приобретали значение идеологических и политических символов конфликта между «архаистами» и «новаторами», то есть группами населения, стремящимися изменить status quo и пытающимися его сохранить, вследствие чего новая музыка стала рассматриваться как симптом реально опасного вызова сложившемуся образу жизни в целом, это значит непосредственно или в конечном итоге тоталитарному политическому режиму [24] Во всяком случае, такое можно было достаточно часто услышать от «работников идеологического фронта» или встретить на страницах газет, а вышучивать подобные максимы тогда еще не рисковали. Примерно ту же точку зрения уже в наши дни пародирует К. Шахназаров в фильме «Город Зеро» или «на полном серьезе», как говаривали в прежние времена, предлагает В. Тодоровский в фильме «Стиляги». Задним числом даже возникает смелая, но вполне правдоподобная догадка, что экстатические состояния, вызванные музыкой, танцем, флиртом и алкоголем (наркотиков тогда практически никто не употреблял, считалось «западло»), начальство от идеологии рассматривало как вполне реальную альтернативу «светлому будущему» коммунизма. Сегодня не исключаю, что они были правы.
. Такая установка, присущая далеко не только сотрудникам спецслужб или функционерам партии, но и значительному числу «простых» советских людей, объясняет, почему вполне естественное, в сущности, желание молодежи слушать музыку, которая нравится, или танцевать, одеваться и причесываться так, как того требует мода, вызвало к жизни конфликт, сначала разделивший, а потом и разрушивший советское общество.
На самом деле, разумеется, никакой специально антисоветской «идеологической диверсии», как говаривали в прежние времена, тут не было, скорее наоборот – это был первый заметный пароксизм изменений, охвативших практически все без исключения общества modernity, независимо от характера их политического режима или экономического уклада, и в конечном итоге основательно преобразивших эту специфическую цивилизацию: не случайно во второй половине XX века идентификация с рок-сценой и ее звездами стала выполнять примерно ту же самую функцию, какую прежде выполняло отношение к международному коммунистическому движению или же ссылка на его лидеров. Тут у нас эти изменения начались примерно тогда же, что и там у них, их инициаторами или «заинтересованной публикой» были представители того же самого поколения (первая отечественная рок-группа Revengers появилась в том же 1961 году, что и пресловутые The Beatles, как и те – в портовом городе, только что это была Рига, а не Ливерпуль), а если дальнейшее развитие событий заметно отличается как по сценарию, так и по достигнутому результату, то здесь решающую роль, безусловно, сыграли различия между обществами, где протекали соответствующие инновационные процессы [25] Для всякого рода процессов on the edge of science это, пожалуй, даже общее правило: существенные открытия делаются практически одновременно в разных странах, но вот их дальнейшую судьбу определяет контекст, дружественный к инновациям в одних случаях и враждебный в других.
. Там у них юные любители блюза и рок-н-ролла были практически сразу же опознаны как своего рода «клондайк», то есть принципиально новый рынок, обладающий практически неограниченным потенциалом развития, следствием этого явилась не только трансформация шоу-бизнеса в доходную и высокотехнологичную индустрию, каким мы его знаем сегодня, но и наделение рок-группы теми же функциями общедоступного «социального лифта», каким, например, несколькими столетиями прежде было мореплавание, а совсем уже в недавнем прошлом – разработка цифровых технологий и гаджетов; в результате там у них изменения, связанные с формированием post modern обществ, с самого начала оказались «массовым забегом», а их субъектом – наиболее одаренные и амбициозные представители молодого поколения.
Читать дальше