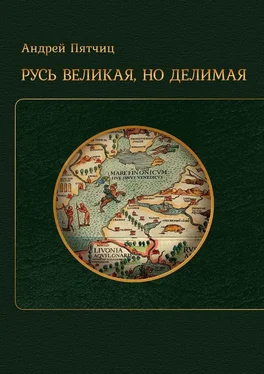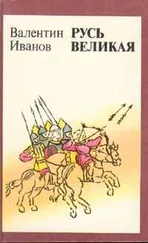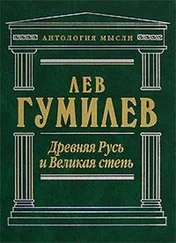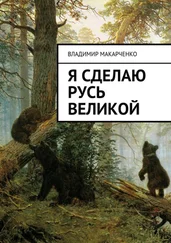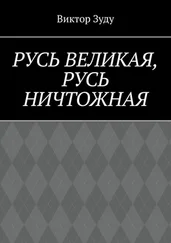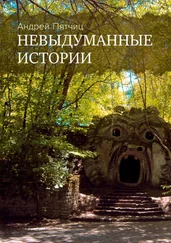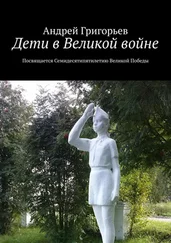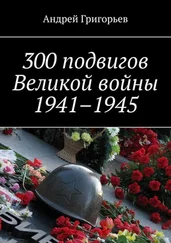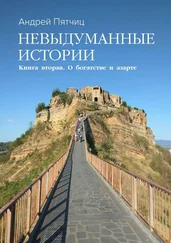См. жизнеописание первых святых мучеников Фёдора Варяга и его сына Иоанна, согласно дошедших до нас сведений, погибших не по религиозным мотивам, а по той причине, что отец отказался выдать своего сына для жертвоприношения (произошло это ещё до принятия христианства св. Владимиром, поэтому речь не идёт о каком-то гонении, но о частном случае). Единственным мотивом для того, чтобы считать св. Фёдора Варяга христианином, является то, что он достаточное время служил наёмным воином в Византии. Популярнейшие святые восточного христианского обряда (кроме Русской Православной Церкви, они почитаются в Болгарии, Сербии и украинскими греко-католиками) Борис и Глеб (сыновья варяга кн. Владимира и византийской принцессы Анны-«болгарыни» (по Нестору) из Византийской Македонской династии) погибли не за мужественное свидетельство своей веры в Христа, но по банальным причинам, связанным с наследованием власти и имущества (княжеств). Любопытно, что оба брата, покорно принявшие смерть (то есть безропотно подчинившиеся силе), стали почитаться святыми едва ли не сразу после кончины. А вот их брат Святослав Древлянский, попытавшийся бежать, но будучи настигнутым, оказал сопротивление, канонизирован не был… Возможно, это объясняется тем, что варягам, создававшим государственные образования «сверху» и использовавшим для этого восточную форму христианства как идеологическую основу, такой пример неподчинения был не очень удобен. Применяемый в отношении Бориса и Глеба синоним «страстотерпцы» никакой религиозной подоплёки не имеет. В их случае это просто насильственная смерть, принятая практически неосознанно и не по своей воле. Мученичество за веру в массовом виде появилось у восточных славян только в период после Революции 1917 года и особенно во время сталинских репрессий. Исключение составляют старообрядцы, но это совершенно иная история.
Очевидно, что для принятия новой религии и именно в византийском варианте у киевского князя-скандинава были и другие основания, о которых автор ПВЛ не упоминает. По сути, варяги выбрали греков, которые de facto и «сделали» их русами. Оснований для этого было достаточно. Приведём только некоторые из них:
1. Перед Владимиром стояла задача создания прочной социальной структуры – государства, необходимого ему для выживания лично и его соплеменников на восточнославянских землях. Для объединения под своей властью приобретённых подданных нужна была некая объединяющая идея, без которой длительное существование централизованного государства практически невозможно.
2. Скандинавы, передвигавшиеся по пути «из варяг в греки», оценили и приняли христианство византийского, а не латинского обряда, среди прочего по той причине, что с западными христианами они изначально враждовали, а в Константинополь пришли в качестве торговых людей и наёмников, часто исполнявших функции личной гвардии не только высших сановников, но и императоров, то есть получили прекрасную возможность в спокойной обстановке познакомиться с новой религией, на базе которой существовало могущественное Византийское государство.
Справка.Отряды наёмников-скандинавов так часто использовались византийскими императорами в качестве личной гвардии, что для их командира придуман специальный титул – « άχόλουιϊος» (аколутбос). О статусе аколутбоса можно судить по тому, что, в отличие от прочих сановников, он мог находиться в присутствии императора с луком или каким-либо другим видом оружия. Гвардейцы во главе со своим командиром сопровождали императора во время появлений на публике, в том числе и во время больших религиозных праздников, во время боевых действий и даже выполняли деликатные дипломатические поручения. – См.: «Fontes Historiae Daco-Romanae III. Scriptores Bizantini saec. XI – XIV», Institutum studiorum Europae Meridionalis-orientalis, Bucharest MCMLXXV, p. 25; Sigfùs Blöndal «The Varangians of Bzantium» (chap. «Haraldr Sigurðarson»), Cambridge University Press, New York, 1981. С. 63.
3. В геополитическом смысле Византия была намного более притягательна для молодого Киевского государства, чем «латинская» Священная Римская империя, даже не имевшая с ним общей границы. Кроме того, последняя в этот период уступала Византии в культурном и экономическом развитии. Западная Европа, объединённая в идеологическом смысле латинским обрядом, в тот период, неудачно обозначенный термином «средние века», явно проигрывала великолепию и изысканности Византийской Церкви.
4. Нельзя забывать о моральном разложении тогдашней элиты Римской Церкви. В конце IX – начале X веков на папском престоле царила полнейшая неразбериха: папы сменяли один другого с удивительной быстротой, иногда задерживаясь на нём всего на несколько месяцев или даже недель. Моральный облик большинства пап того времени заставлял желать лучшего. Не стоит забывать, что, когда послы князя Владимира выбирали подходящую религию, ещё свежи были воспоминания о фактически правящей Папским (Церковным) государством сожительнице Сергия III (870—911 гг.) veneris exercitio et scortum impudens 53Теодоре (870—916 гг.) и её дочери Марии (Mariozza, Marozia, 892—955 гг.), любовнице того же папы, от которого, по словам Лиутпранда Кремонского, у неё родился будущий Папа Иоанн XI (910—935 гг.); сохранились и воспоминания о «Трупном синоде» (« Synodus horrenda» ) 897 года, с последствиями которого так или иначе пришлось разбираться нескольким папам первой половины Х века.
Читать дальше