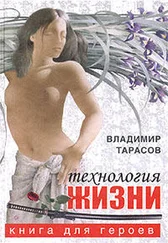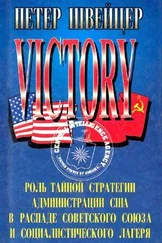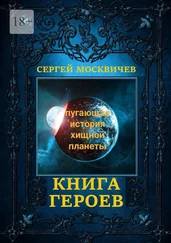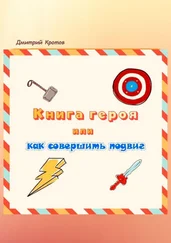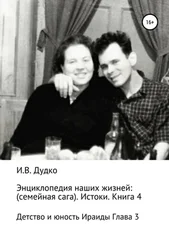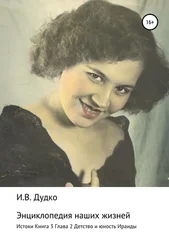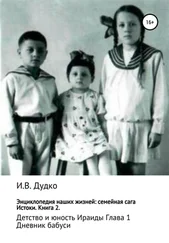Первые зафиксированные проникновение в советские территориальные воды подводных лодок США были отмечены в 1948 году – две дизельные подлодки «Си дог» и «Блэкфин». Они следили за советскими кораблями в Беринговом проливе, прослушивали переговоры между кораблями. На Севере разведдеятельность началась с похода двух лодок, «Кочино» и «Таск», к советским полигонам боевой подготовки в Заполярье. Лодки были оборудованы специальной аппаратурой для съёма сигналов телеметрической информации при испытательных пусках новейших советских ракет. Не буду рассказывать подробно о приключениях этих лодок в советских территориальных водах, скажу просто, подлодка «Кочино» погибла. Секретная миссия провалилась. На Чёрном море вместе с американцами, разведмиссии проводили и турки. В 1955 году КГБ заявило о задержании трёх турецких шпионов, один из которых по некоторым данным был высажен с подводной лодки. И так практически по всему периметру советских морских границ. То, что происходило, усугублялось ещё и войнами по всему периметру России. И так перед Тихоокеанским флотом встала задача по противодействию пларб типа «Огайо». Эта задача была поставлена 45-й противолодочной дивизии. С 1982 года подводные лодки дивизии начали протаптывать к Бангору тропинку. Первой такую задачу получила и проложила путь подводная лодка К-492.
Это было признанием командованием флота заслуг ПЛА К-492, что позволяет гордиться экипажу подводной лодки своими успехами. Справедливости ради необходимо признать, что вышестоящий штаб флотилии подводных лодок, занятый повседневной текучкой и секретностью, к подготовке операции относился весьма прохладно. Считаю, что благодаря и этому факту мы смогли скрыть от разведки вероятного противника время, направление и цель выхода ПЛА в море.
Когда я начал изучать материалы по теме Бангор и пларб «Огайо», я убедился, что у нас ничего нет, начиная от карт и заканчивая системами берегового наблюдения и противолодочной борьбы. Все сведения, полученные нашими подводниками от нашей разведки, были сосредоточены в двух областях – это шпионаж по системам связи и агентурная разведка плюс очень скудные данные, плохо обработанные и несистематизированные, полученные на боевых службах. У нас не существовало систематизированной программы ведения подводной разведывательной деятельности и практических рекомендаций для командиров подводных лодок. И решение этой архиважной задаче нам предстояло выполнить впервые на флоте, открыть это направление на свой страх и риск. Мы с этой задачей справились отлично, оставив потомкам практические методики и уникальный материал, который в мою бытность сразу исчез из поля зрения штабов и командиров.
Американцы очень активно использовали свои атомные подлодки для разведмиссий. Их оснащали радиотехнической, гидроакустической аппаратурой, чтобы снимать акустический портрет советских лодок. Это шумы лодки и винтов (у каждой лодки он уникальный), шум циркуляционных насосов первого контура ядерных реакторов, чтобы определить тип реактора у новых лодок, расположение механизмов и акустических систем, радиосистем лодки и т. д. А также анализ радиоактивного следа лодки. Он позволяет провести анализ ТВЭЛОВ, используемых в реакторе. И т. д. и т. п. На лодках США использовалась новейшая видео- и фотоаппаратура, позволяющая производить съемку, как в обычном режиме, так и под водой. Один из наиболее удачливых командиров подводного флота США – Честер Мэк. В марте 1969 года, командуя подлодкой «Лэпон», на перископной глубине заснял новейшую советскую подлодку проекта 667А водоизмещением 11 500 т, с 16-ю баллистическими ракетами на борту. Мэк отснял ее на видеокамеру. Киннэрд Мак Ки, командир подлодки «Дэйс», совершил следующие «подвиги». В 1967 году он отснял первый в мире ледокол «Ленин» и взял пробы воздуха. В 1968 году он сфотографировал подлодки проектов 671 и 670, частично сняв их шумовые портреты. Это был настолько значительный успех, что командир был приглашён в Комитет начальников штабов для личного доклада о новых советских атомных лодках. Однако самым знаменитым считается командир подлодки «Гринлинг» – Шаффер, ему удалось совершить манёвр подныривания (весьма опасный). Он заключался в слежении за неприятельской подлодкой на очень близком (от 10 до 100 метров) расстоянии под ней. Это делалось, чтобы снять очень точный шумовой портрет лодки. Так вот, Шафферу удалось поднырнуть и под 670 («Чарли») и 667А («Янки») в одном и том же походе. Но кроме того ему удалось заснять подводную часть корпуса, рули и винты через специальную сверхчувствительную телекамеру, вмонтированную в перископ. Но всё-таки самой главной добычей были шумовые портреты лодок. Эти данные были немедленно введены в компьютеры системы слежения за подводными лодками «СОСУС». Разведывательных операций было много и цели у них были разные.
Читать дальше