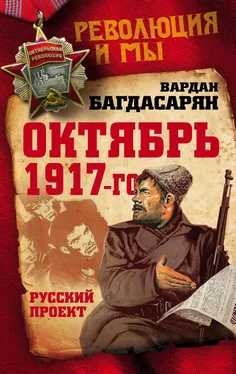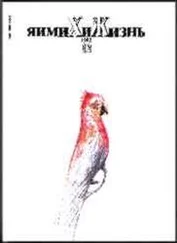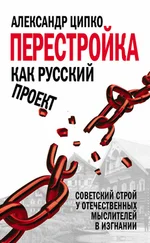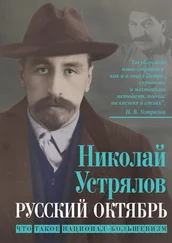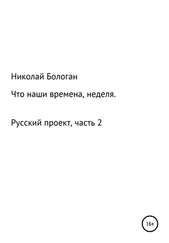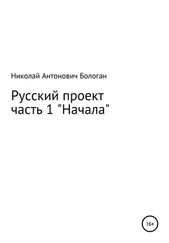Вектор кадровой политики И. В. Сталина был направлен на обеспечение преобладающего положения в институтах власти лиц славянского происхождения. На авансцену идеологического фронта выдвигаются такие фигуры, как А. А. Жданов, которого митрополит С.-Петербургский и Ладожский Иоанн (Снычев) определил как «партийного славянофила» [197]. По воспоминаниям Л. М. Кагановича, Сталин не допускал ситуации, чтобы заместителем у управленца, представляющего национальное меньшинство, был бы другой представитель нацменьшинств. Через такие ограничения создавались реальные препятствия формирования этнических кланов.
В преддверии войны из РККА в массовом порядке увольнялись представители «иностранных национальностей»: поляки (26,6 % уволенных), латыши (17,3 %), немцы (15 %), эстонцы (7,5 %), литовцы (3,7 %), греки (3,1 %), корейцы (2,1 %), финны (2,6 %), болгары (1,2 %), венгры, чехи, румыны, шведы. Превентивной мерой стало переселение из приграничных районов «неблагонадежного» по этническим признакам населения поляков и немцев – с Украины, корейцев и китайцев – с Дальнего Востока, курдов – из Закавказья. Те же мотивы военной угрозы лежали в основе решения 1937 г. о расформировании признанных вредными национальных школ – финских, латышских, немецких, польских, английских, греческих и др. Утверждалось, что в них велась враждебная советской власти деятельность.
Закрытию подлежали Коммунистический университет национальных меньшинств Запада (имевшего в своем составе секторы – литовский, еврейский, латышский, немецкий, польский, румынский, белорусский, болгарский, итальянский, молдаванский, югославский, эстонский, финский) и Коммунистический университет трудящихся Востока. Постановлением от 7 марта 1938 г. расформировывались существовавшие со времен Гражданской войны национальные части и формирования РККА. Важнейшим политическим шагом по восстановлению национальной идентичности стало введение «пятого пункта» (о национальной принадлежности) в паспорта и официальную кадровую документацию (с 1935 г.). Следствием такой фиксации стало введение в преддверии войны национальных квот на занятие должностей, связанных с поддержкой государственной безопасности. Решением Политбюро от 11 ноября 1939 г. отменялись все прежние инструкции (включая указания В. И. Ленина от 1 мая 1919 г. о преследовании «служителей русской православной церкви и православноверующих»).
В годы войны и первые послевоенные годы осуществлялись спецоперации по депортации ряда народов, обвиненных в коллективном пособничестве немцам. Основанием для репрессий послужили факты сотрудничества некоторой части населения депортированных народов с оккупационными германскими силами во время войны. Безусловно, ответственность за отдельные проявления коллаборационизма неоправданно распространялась на целые народы, среди которых к тому же имелось немало представителей, героически сражавшихся на фронтах Великой Отечественной войны. Однако в контексте рассматриваемой темы важна констатация преемства с депортационной практикой, применявшейся (зачастую к тем же народам) во времена Российской империи.
Широкий резонанс вызвал произнесенный И. В. Сталиным 24 мая 1945 г. на торжественном приеме для советских военачальников в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца тост «За русский народ». Было два его важных смысловых контекста.
Первый контекст – акцентировка роли народа как истинного творца истории. Тост был произнесен на приеме не случайно среди представителей военной, политической и культурной элиты. Напыщенные генералы, писатели, номенклатура – все они позиционировались как триумфаторы. И. В. Сталин опустил их с небес на землю. Им давалось понять, что победителем в войне являлся народ, а не элита.
Второй контекст – акцентировка сталинского тоста на русской идентичности. Основные тяготы в войне легли, по оценке И. В. Сталина, на плечи русского народа. Советский Союз по-прежнему позиционировался как многонациональное государство, однако русский народ был выделен как главная государствообразующая и культурообразующая сила. Со слов об интеграционной миссии «великой Руси» начинался текст принятого с 1944 г. государственного гимна СССР. Формировалась идеология позиционирования русского народа как «старшего брата» в единой многонациональной семье.
Тост за русский народ был не просто тостом, а идеологической манифестацией. Бывшим космополитам, которых сохранялось еще немало в среде элитарной части советской интеллигенции, предписывалось теперь полюбить русский народ и его культуру.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу