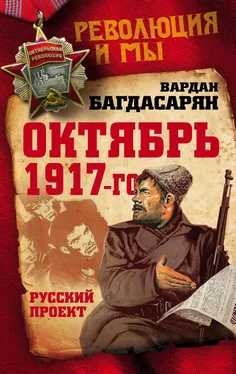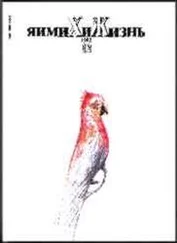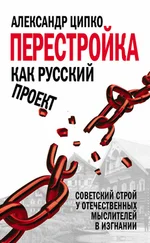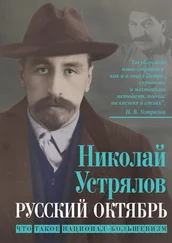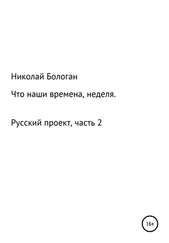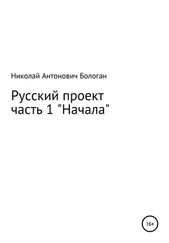Проходит семьдесят лет, и казавшаяся незыблемой Империя рушится в несколько дней. Такое обрушение, несмотря на свою скоротечность, не могло быть случайным. Конечно, враги вели против нее борьбу. Но одного этого было бы недостаточно. Русский философ, эмигрант первой войны Иван Ильин по отношению к попыткам конспирологической интерпретации Революции писал в свое время, что видеть в ней «просто результат заговора» – «вульгарный и демагогический подход»; «это все равно, что объяснять болезнь злокозненно сговорившимися бактериями и их всесильностью… Бактерии не причина болезни, они только ее возбудители; причина в организме, его слабости». [7]Чтобы рухнуло имперское здание, нужно было подорвать фундамент, на котором оно выстраивалось. Фундаментом империй как государств – цивилизаций являются прежде всего ценностные накопления и социальные нормы жизнеустройства. Они были подорваны задолго до семнадцатого года. Попытаемся разобраться, что и как привело к этому подрыву.
За двумя реформационными периодами закреплено в историографии понятие «великие реформы». Первый – реформы Александра II, второй – реформы П. А. Столыпина. Но в чем состоит величие преобразований? Один подход задает критерий величия с позиций универсальной теории прогресса. Великими в этой постановке являются те реформы, которые соответствуют неким мировым, в действительности западным, практикам. Но ведь сам по себе перенос управленческой практики не обязательно приведет к успеху, а может даже обернуться в других условиях катастрофой. Сила среды часто оказывается весомее силы реформ. Другой подход к величию реформ заключается в их оценке по критерию усиления или ослабления жизнеспособности страны. Здесь на первое место выходят уже не внешние рецепты, а собственные цивилизационно-ценностные накопления. Будучи великими в соответствии с первым подходом, оба реформаторских периода имели подрывное значение при рассмотрении их через призму второго подхода.
Либеральная идеология реформ Александра II и российский цивилизационный контекст
Реформы Александра II были побуждены существенным завышением в российском обществе масштабов поражения в Крымской кампании. Недооценивался тот факт, что Российская империя достойно противостояла в течение трех лет объединенным силам ведущих стран Запада. Реформирование было в значительной степени определено кризисом имперского сознания. Невыигранная война и – как результат – синдром непобедимости стремительно трансформируются в комплекс неполноценности. Морально-психологический эффект поражения оказывался более весомым мотиватором реформ, чем рациональное диагностирование состояния государственного механизма.
Мировая капиталистическая конкуренция национальных экономик актуализировала угрозы военных экспансий. Угроза отставания мотивировала переход к реформам. Перед Российской империей встал вопрос о необходимости системной модернизации. Но проблема состояла в выборе модернизационной модели. Сравнительно низкая производительность труда в помещичьем и крестьянском хозяйствах, отсутствие сформировавшегося рынка свободной рабочей силы, отсутствие частного капитала определяли обращение к казавшемуся успешным опыту стран Западной Европы.
Выбор был сделан в пользу либеральной (с оговорками, характерными для либерализма XIX в.) модели развития. Понятия «гласность» и «оттепель» прочно вошли в повседневный общественный лексикон. Царя окружила когорта либералов-реформаторов. Одним из основных программных концептов была идея децентрализации. Популярность среди элиты европейского образа жизни была фактором распространения либерально-западнических теорий. Группирующаяся вокруг ряда крупных журналов общественность обеспечивала соответствующую шумовую поддержку реформ. Восторженно приветствовал Александра II из Лондона герценовский «Колокол». «Мы, – декларировал А. И. Герцен, – идем с тем, кто освобождает и пока он освобождает» [8]. Одобрительно отзывалась о реформах в России иностранная пресса. К ней новая российская власть выработала привычку прислушиваться. Ошибка заключалась в игнорировании при проведении реформ российской цивилизационной специфики.
Россия шла, казалось бы, в том же универсальном направлении, что и выбранные как образец для подражания ведущие западные страны. Перспективы развития связывались в социально-экономической области с утверждением модели капитализма, а в общественно-политической – модели либеральной демократии. Однако реформаторские проекты сталкивались с реалиями российского цивилизационного уклада. Проектные перспективы оборачивались комплексом неразрешимых в рамках новой парадигмы развития противоречий и конфликтов. Революции начала двадцатого столетия оказались прямым результатом действия запущенных в ходе реформ процессов. Парадокс убийства «царя-освободителя» представителями освободительного движения находит свое объяснение. Самодержавие само вызвало к жизни те силы, которые стали представлять угрозу его собственному существованию.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу