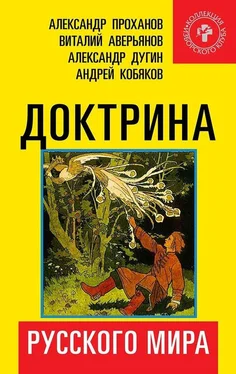В. А.:Мне кажется, что все-таки оценить эпоху можно только на дистанции. Хотя мне мои знакомые, крупные писатели, например, Александр Андреевич Проханов, тоже говорили – да, сейчас кризис прозы. При этом рядом с нами живут тот же Проханов, тот же Поляков, например, замечательный писатель. Есть Личутин, замечательный писатель, язык тоже очень сочный, интересный. То есть нельзя сказать, что у нас нет больших современников в прозе… Но определённый кризис сознания, может быть, связанный как раз с информатизацией, с компьютеризацией, с давлением цифровой культуры, мы наблюдаем. По всей видимости, новый гений, который сейчас должен появиться, – а может быть, он уже где-то есть, – будет работать на парадоксальное преодоление цифровой культуры через неё же саму. То есть он вберёт её в себя, переработает, как это обычно делал Русский мир всю свою историю, – брал новые технологии, перерабатывал их и очеловечивал, и делал их даже более человечными, чем старые технологии.
В.Е.:В лингвистике есть такой термин – он, конечно, вряд ли будет одобрен – «магическая функция языка». Магия не на уровне РЕН ТВ. А что такое магия? Язык ведь воздействует на реальность. Зачем люди пишут стихи? С точки зрения практической это вообще не нужно. Почему в голове у человека сидит метафора? Метафора – это же и есть культура, в том числе и сакральная культура. Вот почему-то человеку, в отличие от животных, приходится постоянно порождать культуру, и он сам не может объяснить, что это такое, и как это происходит.
Б. К.:Он мыслит образами, образы могут быть белые, могут быть черные, могут быть сакральные, могут быть духоносные. Та же икона русская и вообще икона в христианстве – это образ чего? – Бога, Спасителя, святых…
В. Е.:И поэтому я настаиваю, что всё-таки познать культуру лучше всего можно через язык… Вот Жан Лакан говорил фрейдистам: мы, конечно, Фрейда любим, сновидения толковать надо, но самое лучшее, через что можно истолковать сознание и подсознание человека, – это язык. В конечном счёте мы только через язык можем открыть глубинные смыслы. Вы же формулируете свои философские мысли как-то?
В. А.:Я абсолютный сторонник магической трактовки языка. Достаточно назвать Павла Флоренского, Алексея Лосева и многих других. Язык – это энергия, поэтому он не может не воздействовать на человека, в том числе напрямую. Метафора – это скорее некая оперативная технология. А на более глубоком уровне есть миф. Любой живой человек обязательно имеет какой-то миф или несколько мифов, он ими живёт. Потому что миф – это воля к тому, чтобы трактовать реальность в каких-то полуволшебных отношениях с невидимым миром.
Б. К.:С сакральным миром.
В. А.:Да, об этом я и говорю. Поэтому получается, что этот внутренний сгусток энергии, который человек накапливает в мифе, находит выражение, прежде всего, в языковых формах и в формах, связанных с речетворчеством. Самым напряжённым образом – в молитве, в эпосе, в рассказе о каком-то событии, о каком-то откровении, как правило. Потому что вся большая литература – это рассказ о некоем откровении, о некоем мистическом явлении, то есть о сакральном смысле. Поэтому, конечно, язык – это в первую очередь воздействие на человека. В каком-то смысле это, можно сказать, слабая форма гипноза. А иногда и сильная форма гипноза, когда мы стараемся убедить другого человека в своей правоте, в том, что мы действительно соприкоснулись с истинной реальностью, в том, что мы несём её.
Б. К.:Житийная литература, на которой были воспитаны герои Лескова, например, как раз апеллировала к этим пластам сознания. Были предложены мифы – в данном случае жития святых, которые органично ложились на национальное самосознание. Отчего на шестой части – восьмой теперь уже части – суши каноническая территория Русской православной церкви? Ведь из небольшой Древней Руси это всё развилось.
В. Е.:Если даже в наше советское время – ну совсем атеистическое время – сразу самый популярный роман «Как закалялась сталь». Он полностью повторяет все элементы жития. Даже в такой совсем уж безбожной ситуации. А сейчас что у нас? Есть хотя бы подобие какое-то того, что потом в соцреализме было сформулировано как положительный персонаж и действительность в её революционном развитии? Простой вопрос: на кого равняться? Последний фильм такого рода был «Брат-2», в нём прозвучало нечто подобное, хотя и довольно странным образом это было выражено.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу