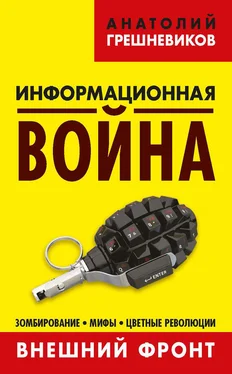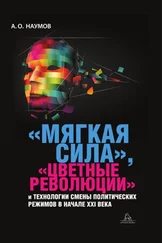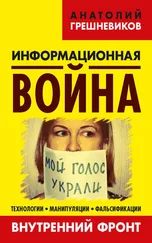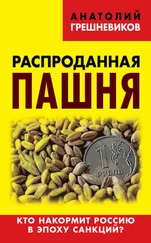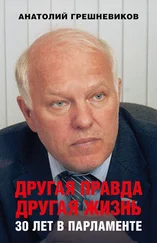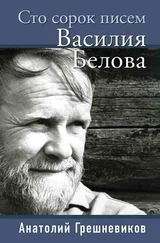Пройдет время и станет ясно, что после таких «столкновений мнений» появляется конкретный прогнозируемый результат: и Коржаков, и Барсуков были сняты с работы. Однозначным является здесь и тот факт, что сколько бы ни дискутировался один аспект одной проблемы, но без определенной заданности, безнравственного поступка журналиста и «подсадных уток» даже одна проблема не решается. Зрителю, не искушенному в политике, трудно разобраться в подобных столкновениях мнений, кто там «подсадной» спорщик, а кто уготован на роль «жертвы». Хотя в последнее время многие россияне стали разбираться, глядя на повторяющиеся комбинации и информационные игры, чего следует ждать, и что скажут такие информаторы, как Новодворская, Глеб Якунин, Гайдар, Радзиховский, Чубайс, Ясин, Уринсон, Боровой… Конечно, специалисты информационного оружия не столь наивны и опрометчивы, чтобы не менять информаторов. В подборе и засветке своей кандидатуры-информатора, не узнаваемого сразу массовым зрителем или читателем, есть более сложная хитрость… К информации в нужный момент и для достижения цели необходимо доверие. Чтобы при столкновении мнений зритель не заподозрил игру или не распознал «подсадного» информатора, активно работает фабрика грез, манипуляций и громоотводов. Хозяином фабрики грез был руководитель ВГТРК Н. Сванидзе, именно так его окрестили журналисты «Московского комсомольца» (12.02.1998 г.). Громоотводы распознать сложнее, ибо для этого нужны не только опыт, чутье, но и время. Однако, как правило, громоотводами бывают те, кто слабее, гонимее, кто под прицелом критики. У Хрущева громоотводами были Маленков и Молотов, у Горбачева – противники перестройки и особо Ельцин, у Ельцина – Зюганов и народно-патриотический блок. Придерживаясь идеологии политических громоотводов, и проводят столкновение мнений, только не на уровне персоналий, отдельных политических фигур, а столкновение систем и целей. Тут у западников задача: не оставить для истории ни белых пятен, ни возможности что-либо изменить, переиначить, осудить. Для подобной цели писались статьи, книги, киносценарии, репортажи. Все это информационное сырье обязано было в столкновении мнений преломлять идеи, реалии, цели. Чтобы в обществе утвердилось, например, мнение о негативной роли ГКЧП, западники поддержали выход книги бывшего прокурора России Степанкова – полудокументальную книжку воспоминаний о ГКЧП.
В общем, пока западники у власти, они будут прибегать для достоверности демократических грез к такой подаче информации, как столкновение мнений. Они знают, на кого набрасываться, кого компрометировать, с кем и как не соглашаться. Выработан на такой случай и принцип: «нравственно то, что выгодно». Сегодня им выгодно перекричать, переубедить, перехватить мнение тех, кто им страшен, кто не даст им разрушать Россию. Потому-то у них всегда есть в запасе и те, кто, меняясь, должен в столкновении мнений отработать заказ. Прав тут Николай Сванидзе: «Телевидение – это колоссальный политический рычаг».
К интерпретации журналисты прибегают тогда, когда требуется объяснить тот или иной факт, истолковать то или иное явление, событие, действие. Ничего предосудительного нет в том, что журналист дает свой комментарий обнародованному факту или событию, высказывает свою точку зрения на происходящие процессы. У телезрителя или читателя это вызывает уважение, а порой и доверие. Однако немногие догадываются о том, что комментарий может быть заказным, то есть сознательно искажающим факт или событие.
В настоящее время телевидение, радио и пресса по каждому значительному событию в России стараются дать свой комментарий. Наблюдательный телезритель может заметить, что на разных каналах одному и тому яге событию даются совершенно противоположные оценки. Это свидетельство того, что журналист отражал заказную, чужую точку зрения… Конечно, бывает и так, что журналист «подбирается» или «покупается» под нужную позицию, взгляд, тогда он без особых усилий и издержек отстаивает точку зрения «хозяина». У политиков-западников и журналистов-западников не могут не совпадать взгляды, потому комментарии в средствах массовой информации искажают события реальной жизни, формируют необъективные оценки и мнения. Даже в тот момент, когда и не требуется интерпретация, средства массовой информации все равно близки к субъективности. В этом признался известный журналист-западник Марк Дейч, работающий долго в Москве на радио «Свобода»: «Я всегда говорил, что объективной журналистики в принципе не существует, это легенда. Журналистика субъективна. И любой журналист субъективен, даже если выдает только информацию, все равно субъективен: он решает, у кого брать интервью, какие вопросы задавать и т. п.». Правда, подобные высказывания Марка Дейча тут же вызывали у него самого риторические и неискренние вопросы, ставящие в недоумение и его, и собеседника: «Ну, почему в часовой информационной программе представители чеченской стороны могли высказываться в течение десяти минут, а аргументы российской стороны игнорировались?» Невдомек Дейчу, что специалисты информационных войн имеют не только определенную манеру подачи новостей, но умеют еще и использовать интерпретацию, как средство информационного воздействия на человека.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу