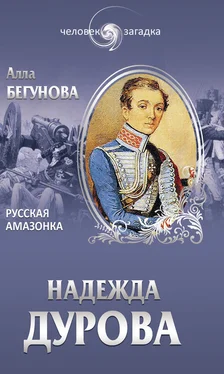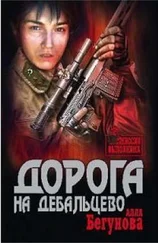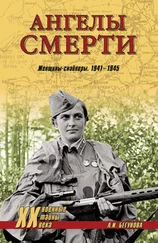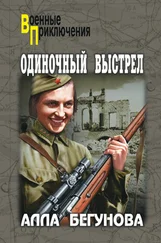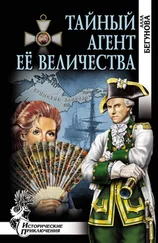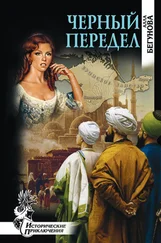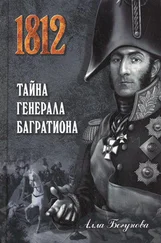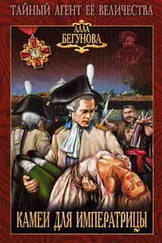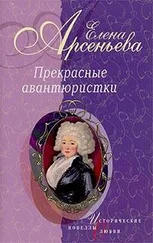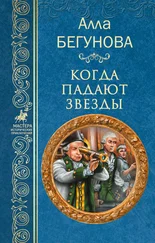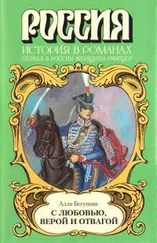Возможно, немалую роль в этом сыграло ее личное знакомство с председателем Цензурного комитета князем Михаилом Александровичем Дондуковым-Корсаковым (1794–1869). В его доме «кавалерист-девицу» все принимали как свою. Бывало, она по нескольку дней гостила в семье Дондуковых-Корсаковых и в книге «Год жизни в Петербурге, или Невыгоды третьего посещения» сердечно отозвалась об этих людях, противопоставив их холодному расчетливому «высшему свету».
Забрав экземпляры новой книги из типографии, Надежда Андреевна, как и ранее, сама занялась ее распространением и развозила по знакомым, которых у нее с лета 1836 года в столице было немало. Книга шла нарасхват. Никто не забыл Пушкина, а молчание его друзей, издателей журналов, признанных литераторов, публике казалось странным. Дурова вернула его в свет персонажем книги, и любой, знавший его, мог прибавить к этому портрету собственные воспоминания.
Следующие три года стали для Надежды Андреевны периодом напряженной литературной работы. Она писала неустанно, печаталась в журналах, выпускала отдельные книги и подготовила собрание собственных сочинений в четырех томах.
В 1840 году Надежда Андреевна издала в Петербурге, в типографии штаба Отдельного корпуса внутренней стражи три новых повести: «Клад» (225 с), «Угол» (268 с.) и «Ярчук – собака духовидец» (в двух частях: 142 с. и 161 с). В журнале «Отечественные записки» она поместила рассказ «Два слова из житейского словаря: 1. Бал. 2. Воспоминание» (1840, т. 7, отд. 8, с. 38–62), а в журнале «Пантеон русского и всех европейских театров» – рассказ «Оборотень» (1840, с. 41–61). Белинский даже удивился такой ее плодовитости: «г. Александров, видимо, решился дарить нам каждый месяц по большой повести». Далее он разобрал все три сочинения, указав на то, что они, как это обычно у Дуровой, написаны хорошим слогом и представляют собой увлекательное чтение, но гораздо слабее предыдущих ее произведений.
В 60-е гг. XX столетия в Отделе рукописей Государственной Публичной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина в Петербурге были найдены ранее неизвестные ее письма, адресованные в 1838–1839 гг. Андрею Александровичу Краевскому (1810–1889), выпускнику Московского университета, журналисту и издателю. В них «кавалерист-девица» выступает уже как человек весьма опытный в издательском деле, как писатель, озабоченный финансовыми отношениями с издателями. Многое изменилось в ее жизни по сравнению с 1836 годом, когда Пушкин давал ей первые уроки ремесла, а она была никому не известным дебютантом. Теперь ее имя, поставленное в оглавлении журнала или на обложке книги, гарантировало владельцам типографий и периодических изданий прибыль. Она хорошо знала об этом и потому жестко требовала от них достойной оплаты своего труда.
В начале 1839 года Краевский приобрел журнал «Отечественные записки». Но еще в ноябре 1838-го он предложил Дуровой стать сотрудником этого издания. Она согласилась, сообщив, что материалов есть на целый год и добавила: «… но только я не похож на других сотрудников, и об этом-то надобно бы нам с Вами несколько потолковать…» Встречи героини с Краевским происходили не только у нее дома, но и в редакции журнала, где обсуждалось содержание текущих и будущих номеров журнала.
Через год, в ноябре 1839-го, она уведомила Краевского, что выбывает из числа сотрудников. Однако расстались они, по-видимому, вполне дружески. Краевский не забыл отставного штабс-ротмистра Александрова даже спустя много лет. В 1860 году, став казначеем «Общества для пособия нуждающимся литераторам и ученым», он добился назначения ей особой пенсии, которую «кавалерист-девица» получала в течение четырех лет.
Наконец «Записки» напечатались. Насилу мог я взять их от издателя и долго пролежали бы они на столе моем, если б к счастью благородный Смирдин не взял их у меня все, то есть 700-т экземпляров, оставшиеся от первоначальной продажи. Это обстоятельство дало мне возможность уехать домой. В 41-м году я сказал вечное прости Петербургу и с того времени живу безвыездно в своей пещере – Елабуге.
Вот все, что я мог припомнить и написать. Посылаю как есть, со всеми недостатками, то есть помарками и бесчисленными орфографическими ошибками. Было у меня много писем и записок Пушкина и два письма Жуковского, но я имел глупость раздарить их…
Александров (Дурова). «Автобиография»
К 1840 году саквояж с тетрадями в кожаных переплетах опустел. Черновые варианты, наброски, записи сказок и легенд, которые Надежда Андреевна делала в течение предыдущих двадцати лет, – все это пошло в дело, превратилось в мемуары, повести, рассказы и было опубликовано. Томики с двойной фамилией на обложке «Александров/Дурова» охотно покупали, охотно читали, охотно рецензировали.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу