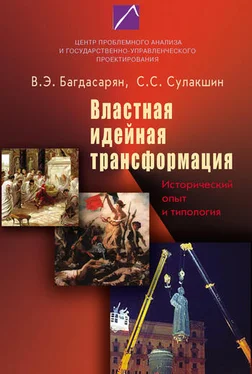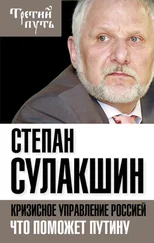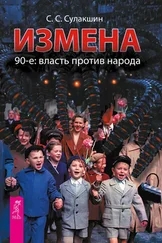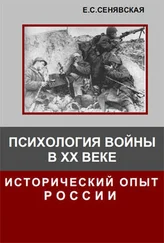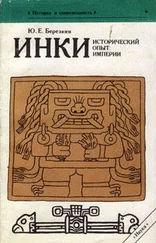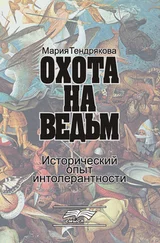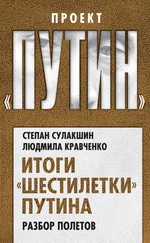Французская революция, указывал А. де Токвиль, разразилась тогда, когда объективно социально-экономическое положение населения было значительно лучше, чем в предшествующие десятилетия. Однако любой, пусть незначительный, сбой в динамике улучшений становится революционным катализатором [64] .
Такой же качественный рост уровня жизни наблюдался и в канун гибели Российской империи, и в преддверии краха СССР. Революционный мотив движения масс заключался не в том, что жизнь стала невыносимой, а в несоответствии ее имеющимся ожиданиям. Обещали материальное процветание, а вместо этого сохранялся товарный дефицит. Эти ожидания имели не только материальное выражение. Возрастающие общественные запросы определялись факторами роста образованности, информированности, самосознания и др.
Взгляды А. де Токвиля получили развитие в разработанной американскими политологами Д. Дэвисом и Т. Гарром теории «Относительной депривации». Побудительной причиной революции считается в этом подходе усугубляющийся разрыв между ожиданиями и объективными возможностями их удовлетворения. Различаются, соответственно, «революции пробудившихся надежд» (новые неудовлетворяемые в рамках прежней системы ценностные запросы), «революции отобранных выгод» (снижение возможностей удовлетворения имеющихся у общества потребностей), «революции крушения прогресса» (сбой в темпах роста улучшения стандартов жизни) [65] .
Рост нефтедолларовых показателей ВВП в 1999–2008 гг. и последовавшее затем банкротство модели нефтяного процветания есть типичный пример формирования условий для «революции крушения прогресса». Ссылка на 1990-е гг., когда при худшем положении народа революция, тем не менее, не произошла, в рамках теории «относительной депривации» не действует. Современная ситуация, согласно ей, в гораздо большей степени может быть оценена как потенциально революционная. На первый план здесь могут выйти не столько материальные, сколько психологические и идеологические факторы (рис. 3.2).
Рис. 3.2. Как происходят революции
Третий ленинский признак революции – «повышение социальной активности масс» – не вызывает возражений. Однако он недостаточен. Предоставленные сами себе массы к революции не способны. Нужна управляющая ими организация. Движения протеста, указывал признанный авторитет в исследовании революционных механизмов американский политолог Ч. Тилли, только тогда смогут трансформироваться в политически целенаправленное коллективное действие, когда будут созданы подчиненные жесткой дисциплине группы революционеров [66] . Поэтому посредством уничтожения организационного ядра революция может быть сорвана, тогда как активность масс перенаправлена в иное русло [67] .
Опыт Мексиканской революции
1917 г. вошел в мировую историю не только пролетарской революцией в России, но и крестьянской революцией в Мексике. Автор книги «Десять дней, которые потрясли весь мир» американский журналист Дж. Рид оказался в гуще обеих революционных кампаний, оставив ценные свидетельские наблюдения, которые дают основания для сравнения их между собой [68] . События в Мексике опровергали марксистское представление о неспособности крестьянства к организации революции. Выяснилось, что не только пролетариат, как считал К. Маркс, но и организованные в повстанческие отряды крестьяне, могут в зависимости от страновых условий, выступать в качестве движущей силы революционной борьбы, имея в ней реальные шансы на успех. Обнаружилось также, что революционный разлом может проходить по линии противостояния друг другу города и деревни. В России в период Гражданской войны также проявились элементы данного антагонизма.
Впоследствии мексиканский опыт широко использовался в других латиноамериканских революциях. Идея крестьянской революционности нашла свое воплощение в теориях маоизма и «мировой гверильи» [69] . Она применяется и сегодня. Достаточно сослаться на Киргизию, где во время тюльпановой революции основной ударной силой народного выступления в Бишкеке стали доставленные в него сельские жители.
А что Россия? Российские крестьяне и русская деревня совершенно напрасно не рассматриваются в качестве ниши для рекрутинга революционных сил. А между тем, характерное для крестьянской среды гомогенное ценностное отторжение либеральных новаций общеизвестно, «Русская Вандея» сегодня не исключена. Судя по социологическим опросам, ментальная готовность к ней у крестьян имеется.
Читать дальше