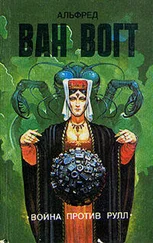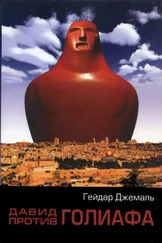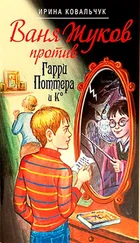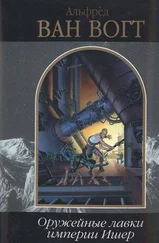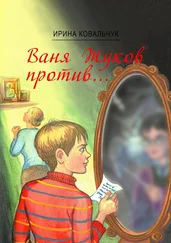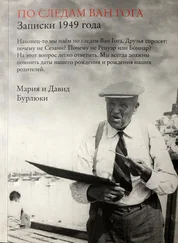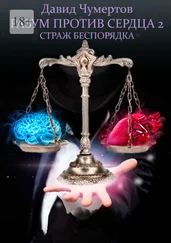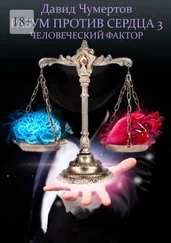И это еще не всё. Потому что после возникновения политических партий, введения всеобщего избирательного права, подъема и упадка общественных организаций, захвата власти коммерческими СМИ – после всего этого в начале XXI века появилось нечто совершенно новое: социальные сети. Допустим, само слово «социальные» неверно: Facebook, Twitter, Instagram, Flickr, Tumblr и Pinterest такие же коммерческие СМИ, как и CNN, FOX и Euronews , с тем отличием, что их владельцы ждут от вас не того, что вы будете смотреть и слушать, а того, что вы будете писать и делиться. Их главная цель – продержать вас как можно дольше на сайте, потому что это позволяет зарабатывать на рекламе. Вот почему им важно количество ваших «друзей» и «фолловеров», вот для чего нужен вызывающий привыкание круговорот «лайков» и «репостов», вот откуда берутся постоянные напоминания о том, что сейчас делают другие, бесконечные предложения подружиться и непрошенные уведомления о популярных постах.
Но социальные сети – это СМИ с совершенно особой динамикой. Если гражданин 2000 года мог поминутно следить за политическим действом по радио, телевидению или в интернете, то сегодня он ежесекундно может на него реагировать: писать комментарии и тем самым мобилизовать остальных. Культура немедленного репортажа получает в довесок еще и моментальную обратную связь. То есть какофонии становится еще больше. Работа общественного деятеля и особенно выборных политиков не становится от этого легче: он не только сразу видит, нравятся ли его предложения гражданину, но и скольких людей этот гражданин сможет взбудоражить. Новые технологии дают людям возможность высказаться (позволяя Мубараку и Бен Али присоединиться к разговору), но из-за этих новых возможностей выборная система еще больше трещит по швам.
К тому же коммерческие СМИ и социальные сети только укрепляют друг друга. Подхватывая и тиражируя новости друг друга, они создают атмосферу всеобщей взвинченности. Жесткая конкуренция, падение продаж и риск потерять рекламодателей только усугубляют рвение коммерческих СМИ еще более эмоционально освещать еще более раздутые конфликты, а их редакции всё уменьшаются, молодеют и дешевеют. Национальная политика превратилась для радио и телевидения в ежедневную мыльную оперу, в радиоспектакль с бесплатными актерами. По большей части редакции сами определяют крупный план, сценарий и подбор типажей и актеров, а политики с переменным успехом стараются привнести хоть какие-нибудь собственные акценты. Самые популярные политики – это те, кто умеет перекроить сценарий и сместить фокус обсуждения в дебатах, то есть направить их в нужное им русло. Предусмотрена и возможность импровизации, и имя ей – горячие новости.
Что касается печатных СМИ, то там ситуация еще сложнее. Газеты теряют читателей, а ряды партий редеют: старые игроки демократии в начале XXI века превратились в утопающих, с громкими криками цепляющихся друг за друга, не сознавая, что тем самым только приближают свой конец. Свободная пресса вовсе не так свободна, как ей кажется, ибо связана по рукам и ногам форматом, тиражами, акционерами и неизменной востребованностью желтизны.
Результаты соответствующие. Из-за коллективной истерии коммерческих СМИ, социальных сетей и политических партий предвыборная лихорадка стала перманентной. Подобные вещи имеют серьезные последствия для функционирования демократии: эффективность страдает от оглядок на выборы, легитимность – от непрерывных позывов презентовать себя как можно ярче. Существующая выборная система раз за разом приводит к несоблюдению общественных интересов и невозможности работать на долгосрочную перспективу: и общественные интересы, и долгосрочная перспектива приносятся в жертву краткосрочным соображениям и интересам партий. Когда-то выборы были изобретены, чтобы осуществить демократию, но сейчас, в современных условиях, они, скорее, стали для нее помехой.
И напоследок масла в огонь добавили финансовый пузырь 2008 года и последовавшие экономический и валютный кризисы, окончательно лишившие систему всяких надежд на спокойствие. Вновь стали актуальны популизм, технократия и антипарламентаризм. На тридцатые годы пока еще не похоже, но сходство с двадцатыми становится все заметнее.
Если бы отцы-основатели США и герои Великой французской революции знали, в каких условиях придется функционировать их методу 250 лет спустя, они точно предложили бы другую модель. Представим себе, что сегодня нужно было бы разработать процедуру, призванную выяснить волю народа: неужели лучшее, что мы смогли бы придумать, это заставить людей раз в четыре или пять лет вставать в очередь на избирательном участке, где в сумраке кабинки для голосования они смогут поставить галочку, причем не напротив какого-либо проекта, а напротив имен в списке, о которых многие месяцы не прекращались разговоры в некоей коммерческой среде, извлекающей из этой суматохи собственную выгоду? И назвали бы мы тогда этот странный, архаичный ритуал «торжеством демократии»?
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу