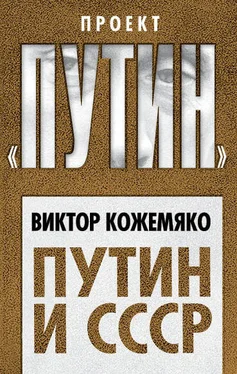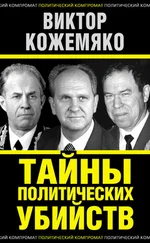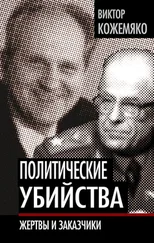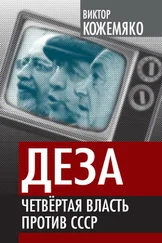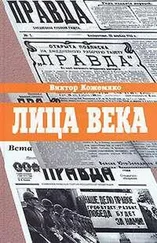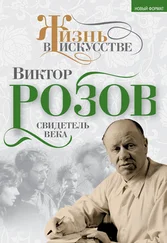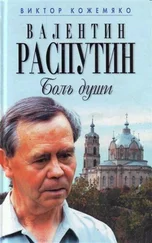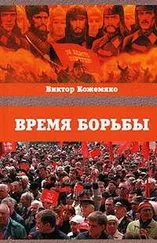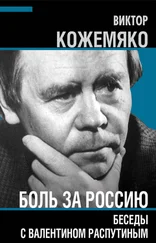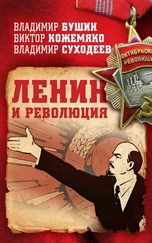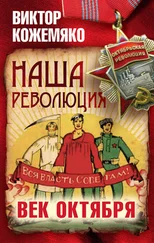— Ох, не все этот урок извлекли…
— Согласен, и горько сталкиваться с тем же сегодня… А самая потрясающая для меня часть нашей творческой интеллигенции — это, условно говоря, шестидесятники, или иначе — диссида, переливающаяся друг в друга. Жутко аномальное, как оказалось, явление! Они ведь имели сверхдоходы, пользовались сверхпопулярностью и обласканы были той властью до степеней занебесных. Но они же первые ее и предали!
Вот Евтушенко. По количеству изданий и переводов его книг это был, наверное, рекордсмен за всю историю человечества. И поездки по миру: хоть к Фиделю Кастро, хоть к Кеннеди.
О чем думали они, руша советский строй и советскую культуру? Им же завидовали поэты на Западе: «Вы издаетесь тиражами 50 и 100 тысяч экземпляров, а мы в своих университетах едва по 100–200 штук…» Видимо, надеялись, что вырежут из советской жизни угодное им макраме, но тиражи при этом останутся прежними.
— Нет, не получилось.
— Да надо же было понимать: если у тебя такие тиражи, то это следствие всей советской истории. И того, что была Магнитка, и был ГУЛАГ, и Великая Отечественная война… Еще раз повторю: это не делится.
— Вы смотрели сериал «Таинственная страсть» на Первом канале, где попытались создать ореол тем самым шестидесятникам?
— Нет. Но посмотрю, надеюсь, хотя в целом эта генерация для меня глубоко неприятная. В частности, ведь это от них пошло обвинение в нашу сторону, то есть всех уважающих советскую власть, что мы, дескать, страдаем «стокгольмским синдромом»: возлюбили якобы своих палачей.
Между тем не уйти от того, что именно у многих из них — у Василия Аксенова, Булата Окуджавы, Юрия Трифонова и так далее — отцы были видными советскими или партийными деятелями, находились на высоких постах в НКВД. Я уж не говорю о наиболее ярых нынешних антисоветчиках: в НКВД служили дедушки чуть ли не каждого из них.
У меня, скажем, не служили. А если бы это и было, не переживал бы я: что ж, работа такая. Значит, свой синдром не у нас, а у них. Они отказались от собственных отцов и дедов, вытаптывая с каким-то сладострастием все, над чем в поте лица трудились предыдущие поколения. Так что здесь психологам есть повод поразмышлять…
— Вернусь к состоянию массового сознания сегодня относительно Октябрьской революции. Как вы считаете, негатив все-таки перевешивает?
— Не думаю. Сознание это, конечно, эклектичное, рассыпанное, мозаичное.
— Каша у многих в головах.
— Это верно. Та самая метла, которую туда еще тридцать лет назад засунули, не зря столько времени прокручивалась. Однако и преувеличивать успех манипуляторов, по-моему, не стоит.
Знаете, если сесть рядом с так называемыми простыми людьми и начать задавать им последовательные вопросы, выяснится, что они за большую и справедливо устроенную Россию, что советская индустриализация им понятна, Победу в Великой Отечественной войне они уважают, полет Гагарина — тоже. Вопрос формулировки и подхода важен, а зачастую и разъяснение требуется.
— Вы говорите это, исходя из собственного опыта?
— Разумеется. К людям нужен подход, с ними нужна доверительная работа. Но разве не аргумент в нашу пользу «Бессмертный полк»? Сколько там — миллионов двадцать, огромная часть страны — целыми семьями выходят! А это же Советская Победа: не просто русского оружия, а советской системы, утвердившейся в результате Великой Октябрьской социалистической революции.
— Абсолютная правда, конечно. Вы очень верно где-то написали: «Ленин — это не только Октябрь 1917-го, но и Май 1945-го». Только ведь далеко не все это понимают, в чем и состоит, на мой взгляд, большая беда нынешнего нашего общества.
— Если людям объяснять, они поймут.
— Приведу один вопиющий факт. Едет человек в Центральный музей Великой Отечественной войны, на Поклонную гору. Выходит из метро — и что же его там встречает? Полотнище трехцветного флага! Именно оно, а не Красное Знамя Победы, которое, казалось бы, здесь куда уместнее. Но нет, поставили на открытие маршрута памятник в честь участников Первой мировой войны и к нему приспособили (вполне умышленно!) этот в цвете выполненный размашистый триколор. А вот советского Знамени Победы, пройдя по всей обширной территории, прилегающей к музею, вы так и не увидите. Впрочем, как и вообще красного цвета, которого, совершенно очевидно, организаторы старались всячески избегать. Но это ведь главный музей не Первой мировой, а Великой Отечественной войны 1941–1945 годов!
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу