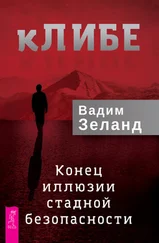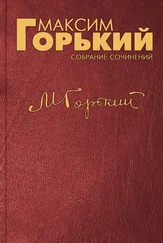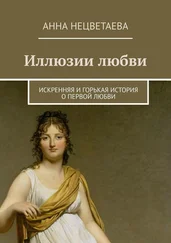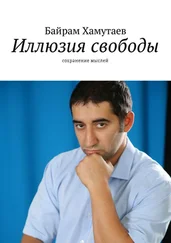Чего ждут молодые французы от рынка труда? На что надеются? Чего опасаются?
Эти вопросы сотрудники парижского журнала «Экспансьон» задали многим юношам и девушкам, живущим в одном из средних по числу жителей французских городов — Блуа. Кроме того, побывав на различных предприятиях в других городах Франции, они встречались с молодыми людьми, нашедшими место, но по тем или иным причинам не получающими удовлетворения от своего труда, а также с теми из них, кто находится наверху социальной лестницы и знает, что их ждет карьера.
Самый сильный удар, подчеркивает «Э к сп а н с ь о н», ожидает юношей и девушек в возрасте от 16 до 18 лет, вступающих в самостоятельную жизнь и впервые ставших перед необходимостью самим зарабатывать на хлеб.
Корреспонденты журнала обратились в бюро по найму, чтобы узнать, сколько молодых людей в Блуа ежегодно сталкиваются с проблемой поисков работы, сколько их приходит каждый год просить места.
— На этот вопрос мы не можем дать точного ответа,— заявил Пьер Вербовен, служащий биржи труда.— Наниматели, с которыми я, как обычно, в начале года установил контакт, заявили об отсутствии перспектив приема на работу. По-видимому, к 436 претендентам в возрасте от 18 лет, уже зарегистрированным в Блуа и в округе, вскоре прибавится еще 700...
Жанна Аттюэль, вице-президент ассоциации родителей учащихся лицеев и колледжей, с волнением говорит:
— Бакалавры складывают бутылки в магазине «Радар», девушки с дипломом счетовода работают санитарками в больнице или продавщицами в универмаге, да и то временно...
«Экспансьон» продолжает: «Для молодых людей, уже испытавших первые удары судьбы, их труд вряд ли станет призванием. Они знают, что надежды беспочвенны. Нескольких месяцев оказывается вполне достаточно, чтобы понять нереальность детских мечтаний. Юноша, намеревавшийся стать учителем, «останется регистратором, и все». Сортировщица в магазине, мечтавшая заниматься воспитанием детей, в лучшем случае получит должность упаковщицы».
Уготована ли подобная участь веем? В обществе, где очень многое, если не все, определяется тем, сколько «стоит» человек и каков у него (или у его родителей) банковский счет, есть и счастливчики. Об одном из них повествует «Эксиансьон»: «В то время как для большинства активная жизнь начинается с поисков какой-либо работы, незначительное меньшинство готовится «делать карьеру». Политехническая школа, Национальная административная школа (ЭНА), Высшая коммерческая школа, Педагогическое училище... От одних этих названий у французских школьников захватывает дух. Выпускникам этих привилегированных учебных заведений не придется думать о месте: достаточно получить диплом, и все пойдет как по маслу».
24-летний Мишель де Розен в будущем году станет выпускником ЭНА.
— Я не чувствую себя деловым «гением»,— говорит он,— и нахожу, что во Франции фирмы не предоставляют молодым больших возможностей. У тех же, кто пойдет в администрацию, будет широкое поле деятельности.
Мишель де Розен признает, что все ему благоприятствовало: во-первых, его круг (отец — бизнесмен, светские связи, деловые знакомства, пребывание за границей, при необходимости частные уроки), школьные годы (хороший лицей, дорогие педагоги), затем высшая школа, где предоставляют все возможности для развития способностей.
— Еще большую роль играет кастовая принадлежность,— откровенно заявляет де Розен.
Да, сам по себе диплом об окончании высшего учебного заведения, как отмечает Уолтер Гудзар-ди в статье, опубликованной американским журналом «Ф о р ч у н», мало что значит. В статье говорится:
«Тезис о том, что выпускнику колледжа в США обеспечено хорошее место, казался большинству американцев аксиомой. Однако в последние годы он стал подвергаться все большим сомнениям. Ныне из-за переживаемых страной экономических трудностей рынок труда не может вобрать в себя большое число выпускников колледжей. Для многих дипломированных специалистов путь от образования к труду превратился в переход, губительный для чувства собственного достоинства».
По мнению автора статьи в «Форчун», над университетскими городками сгущаются тучи. Студенты ясно сознают, что дипломы, ради которых они тратят столько сил, превращаются в никчемные клочки бумаги.
Поворот, приведший к нынешнему положению, был проанализирован Ричардом Фримэном, молодым экономистом из Гарвардского университета. Рассматривая воздействие главных экономических, социальных и демографических сил, которые привели к падению ценности диплома о высшем образовании, Фримэн приходит к таким выводам: после того, как в 1957 г. в Советском Союзе был запущен первый искусственный спутник Земли, в Соединенных Штатах возросла заинтересованность в повышении образовательного уровня. Как следствие этого расходы федерального правительства на нужды высшего образования увеличились с 1960 по 1970 г. в 4 раза. Рост ассигнований на научные исследования и разработки, особенно в аэрокосмической и военной промышленности, обусловил большую потребность в работниках с высшим или средним специальным образованием. Занятость в тех отраслях промышленности, которые пользуются услугами людей с высшим образованием, росла в 1960—1969 гг. вдвое быстрее, чем в других сферах. Да и для преподавания в колледжах и университетах требовались дипломированные специалисты: к 1970 г. в системе образования было занято больше людей, чем в сталелитейной или автомобильной промышленности.
Читать дальше
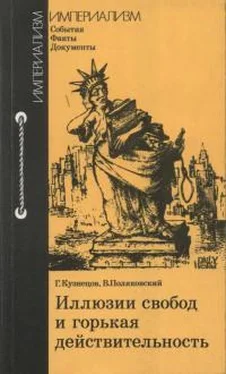
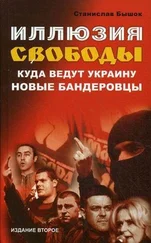
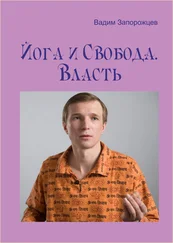
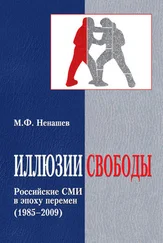
![Федор Вахненко - Иллюзия свободы [litres]](/books/422842/fedor-vahnenko-illyuziya-svobody-litres-thumb.webp)