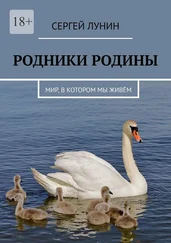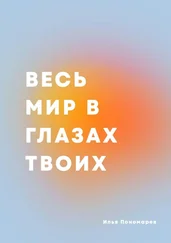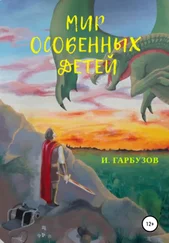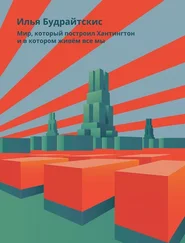Политический консервативный поворот совпал с началом экономической стагнации, обусловленной пределами развития социальной модели постсоветского капитализма. Ответом на структурный экономический кризис, усугублённый спадом цен на нефть и введением санкций со стороны Запада, стал правительственный курс, направленный на резкое сокращение социальных расходов. Основные черты «антикризисного» экономического курса правительства во многом совпадали с «мерами строгой экономии», практикуемыми в рамках Европейского союза (и даже представляли их куда более жёсткую версию). Консервативная риторика, фактически криминализировавшая любые социальные протесты как антипатриотические акции, играющие на руку внешним врагам, легитимировала эту российскую версию «мер строгой экономии» [103].
Таким образом, этап эволюции российского режима, открывшийся в 2012–2014 годах, характеризуется одновременной радикализацией обоих – неолиберального и консервативного – компонентов идеологического симбиоза. При этом их противоречивое единство обретает всё более целостную форму, в которой язык «ценностного консерватизма» становится органичным выражением неолиберального содержания. Так, безусловный суверенитет России и определяемое им морально- политическое единство общества преподносится как необходимое условие противостояния в международной конкуренции и борьбы за ресурсы. Эта борьба предстаёт органичным продолжением закона конкуренции между индивидами. А консервативный скепсис к доктринам, ограничивающим суверенитет во имя универсальных ценностей, оборачивается подозрением в лицемерии любых призывов к защите общественных интересов. Парадоксальным образом, эта логика конкуренции наполняет содержанием консервативные формулы, отсылающие к приоритету общего над личным. Типичным примером такой перформативности консервативного дискурса может служить недавнее высказывание Владимира Путина о том, что у русского «народа всё-таки элемент коллективизма очень сильно присутствует в сердце, в душе», и эта способность «работы в коллективе» «становится одним из конкурентных преимуществ сегодняшнего дня» [104].
Описанная выше радикализация – как неолиберального курса, так и сопровождающей его консервативной риторики – является безусловным свидетельством общего кризиса режима, растянутого во времени. Его дальнейшее развитие неизбежно приведёт к разрывам существующей идеологической гегемонии. Эти прорывы реальности в иллюзорное единство «сна» (возвращаясь к метафоре Венди Браун) будут происходить в связи с необходимостью все более радикальных неолиберальных реформ, имеющих ярко выраженный антисоциальный характер [105].
Мир, который построил Хантингтон и в котором живёт Путин
Одновременно с присоединением Крыма (который официальная пропаганда предпочитает называть «возвращением»), было провозглашено «возвращение России в историю». Подразумевается, что эта подлинная вековая история борьбы за достойное место в мире лишь случайно оказалась прервана двумя десятилетиями неудачного рыночного «транзита» и обречённой попыткой вписаться во враждебную модель международных отношений. Такое объяснение заставило западные медиа назвать Путина опасным романтиком, который, по выражению Ангелы Меркель, «живёт в своём мире». Сам Путин, однако, настаивает на том, что именно его позиция является реалистической, в то время как менторский тон Запада представляет собой пережиток универсалистских иллюзий прошлого.
Стоит вспомнить, что этот своеобразный спор об универсальных ценностях, сегодня вышедший на уровень острого международного конфликта, на теоретическом уровне был открыт почти 20 лет назад. Книга Самюэля Хантингтона «Столкновение цивилизаций» была опубликована в 1996 году и сразу заняла, наряду с «Концом истории» Фрэнсиса Фукуямы, почётное место в ряду «влиятельных» текстов, объясняющих как будет устроен мир после завершения Холодной войны. Однако, если сценарий Фукуямы предполагал историческую победу «Запада» как длительное состояние, опрокинутое в скучное и стабильное будущее, выводы Хантингтона, напротив, были предельно пессимистичны. Сегодня, через двадцатилетие после появления «Столкновения цивилизаций», после 9/11, американских военных интервенций в исламском мире и начала конфликта на Украине, Хантингтон может показаться пророком, предсказавшим будущее. Но возможно, есть и другое объяснение: у «влиятельной книги» просто нашлись достаточно влиятельные читатели – такие, как Джордж Буш, Владимир Путин, Марин Ле Пен или, скажем, вождь «Исламского государства» Аль- Багдади? Иными словами, вопрос в том, что именно создал Хантингтон – удивительно точный прогноз ближайшего будущего или примитивную идеологическую конструкцию, которая превратилась в сегодняшнюю пугающую реальность?
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
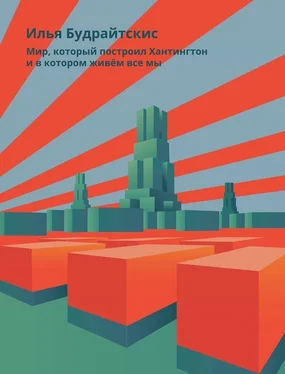
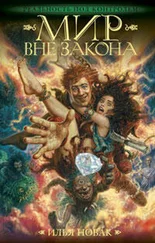


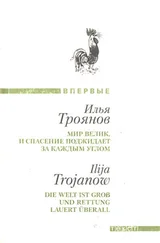
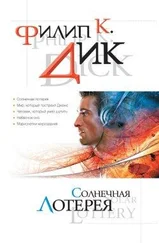
![Илья Игоревич - Не этот Мир [СИ]](/books/424369/ilya-igorevich-ne-etot-mir-si-thumb.webp)