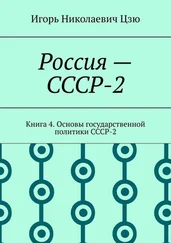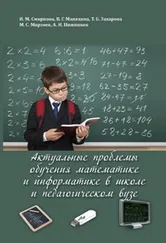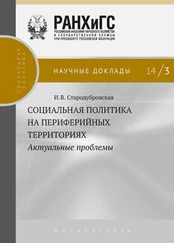Так, в России долгое время существовали большие отличия от западного права, что в периоды форсированных программ модернизации приводило в недоразумениям и конфликтам. Этой стороне много внимания уделили наши писатели. Например, Гоголь писал, что любой суд должен быть «двойным» – по-человечески надо оправдать правого и осудить виноватого, а по-Божески осудить и правого, и виноватого. За то, что не сумели примириться. Гоголь ссылается и на Пушкина: «Весьма здраво поступила комендантша в повести Пушкина “Капитанская дочка”, которая, пославши поручика рассудить городового солдата с бабой, подравшихся в бане за деревянную шайку, снабдила его такой инструкцией: “Разбери, кто прав, кто виноват, да обоих и накажи”».
М. Вебер разработал концепцию идеальной бюрократии, которая неукоснительно, точно и формально выполняет инструкции, данные политической властью государства. Это прежде всего касалось отношений государства с индивидом. Закон есть закон! Бюрократ западного типа разрешает личные проблемы индивида в рамках его права, предписанного законом. Как бы ни умолял бюрократа проситель «войти в его положение», исполнитель инструкции не дрогнет. В России и в СССР обыватели все время ворчали на бюрократов: «Я ему объясняю мое положение, прошу пойти мне навстречу – в порядке исключения, а он ни в какую!» На самом деле, эта беспристрастность бюрократа – огромное достижение. Но если бы мы могли сравнить нашего бюрократа с западным, мы бы были поражены тем, насколько отечественная бюрократия была более гибкой и участливой. Как руль автомобиля, который дает колесам свободно колебаться направо и налево в диапазоне 10º. Это позволяло колесам гасить флюктуации, вызванные камешками и шероховатостями дороги. Необходимость такого «люфта» относительно закона для мудрого правителя объяснял уже Платон.
Историческая иллюстрация
К. Леви-Стросс приводит такой эпизод. В США в резервации небольшого индейского племени пьяный сын убил отца. Он нарушил табу, по законам племени убийство соплеменника наказывалось самоубийством. Белый чиновник посылает полицейского-индейца арестовать убийцу, а полицейский просит не делать этого – парень сидит и готовится к предписанному самоубийству. Если же пытаться его арестовать, он будет защищаться и предпочтет умереть убитым. А если полицейский применит оружие, то и сам станет нарушителем табу. Что за глупости, что за предрассудки! Выполняйте приказ!
И все произошло именно так, как и предсказывал полицейский. В ходе ареста он был вынужден стрелять, убил соплеменника, отчитался о выполнении приказа и застрелился.
А вот другой эпизод. Однажды некий солдат Орешкин напился в кабаке и начал буянить; его пытались урезонить, указывая на висевший в кабаке портрет императора Александра III, но солдат в ответ заявил: «А плевал я на вашего государя императора!» Его арестовали и завели дело об оскорблении царствующей особы. Император, познакомившись c делом, на папке начертал: «Дело прекратить, Орешкина освободить, впредь моих портретов в кабаках не вешать, передать Орешкину, что я на него тоже плевал».
Мудрый правитель (хотя вряд ли он имел право плевать на Орешкина: солдат внизу, а царь наверху; но важнее, что он на миг спустился к солдату и сказал по-человечески).
§ 3. Волеизъявление: парламент – индивидам, собор – личностям
В разных государствах различны подходы к наделению граждан «голосом». Возникновение на Западе нового типа человека – индивида (атома) – привело к «атомизации» голоса. Предельным выражением демократии западного типа стал принцип «один человек – один голос». До этого в солидарных коллективах разного рода «голос» или часть его отдавались тем, кто считался выразителем разума и воли этого коллектива (например, отцу крестьянской семьи, священнику, старейшинам и т.д.).
Для либерального государства массовое участие в выборах существенного значения не имеет, правомочный кворум сокращается порой до 1/4 граждан, а в некоторых случаях (как в США) вообще до одного человека. Социолог Р. Мерфин пишет: «Порой при анализе местных выборов обнаруживается, что лишь 5% имеющих право голоса пришли голосовать. Это означает, что в итоге таких выборов кандидат может занять государственную должность, собрав лишь 2,5% голосов плюс один голос. На выборах 1990 г. некоторые конгрессмены были избраны менее чем 20% общего числа имеющих право голоса. А во Флориде, к примеру, избирательный закон допускает, чтобы кандидат, у которого нет оппонента на выборах, был "избран" автоматически, без включения его имени в бюллетень. Именно так два кандидата и прошли в Конгресс в 1990 г., получив ноль голосов».
Читать дальше