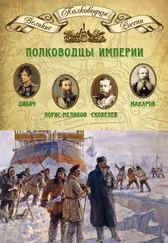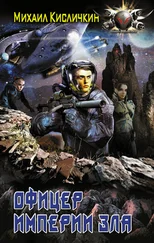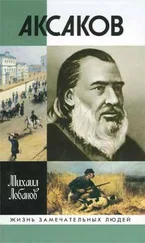Что же касается "прохладного приема", то скажу Вам, что как автор побывал во многих кинотеатрах и наблюдал реакцию зрителей, присутствовал на многих встречах со зрителями, получил множество писем из различных уголков страны.
Должен признаться, что мнения крайне противоположны: как положительные, так и отрицательные, но ни одного "прохладного"...
Не знаю, подлежат ли Ваши действия суду, но поверьте мне, что на всех своих выступлениях я буду широко знакомить публику с этим фактом, чтобы она Вам не доверяла, чтобы в редакциях упоминание Вашего имени ассоциировалось с подлогом.
Копию этого письма я направляю в Союз писателей СССР и Союз кинематографистов СССР, чтобы и там познакомились с Вашими дурными манерами. Примите уверения и проч.
Булат Окуджава". (Газета "Труд" от 1 декабря 1967 г.)
Вся эта "лирика" вызвана тем, что женщина-рецензент осмелилась заметить, что фильм "Женя, Женечка и Катюша" (одним из авторов сценария которого является Окуджава) "прохладно" встречен зрителями. Молодой поклонник песенки о троллейбусе, прочитав эту заметку, не подумает ли вот о чем: а-я-яй, такая чувствительная песенка, а какое письмецо! Ну дело ли стихотворца - ни за что ни про что угрожать судом? Даже как-то страшновато: попадись-ка под власть такой прогрессистской руки...
Так вот, наш молодой человек должен быть продуктом довольно сложного сцепления, чтобы выработалось в нем то, помните, стадное притопывание. Мещанство свое дело делает, не отставая от века. Оно считает себя в курсе всех современных наук и мировых прогрессов. Оно ужасно любит остренькое в науке - пересаженное сердце, летающие тарелки (которые должны быть непременно посланцами с других планет), оно любит порассуждать о физиках и лириках, о какой-нибудь электронной теории бессмертия и т.д.
Такое просвещенное мещанство быстро поставит на место патриархально-отсталого Л. Толстого с его ненаучным утверждением: "Много ли железа и какие металлы в солнце и звездах - это скоро узнать можно; а вот то, что обличает наше свинство, - это трудно, ужасно трудно".
Не имея собственных мыслей, мещанство делает плоским все, к чему ни прилипнет. Даже великие мысли, великие имена забалтывают, гениальную индивидуальность пытаются заклеймить особым словцом, уничтожающим значение подвижничества мысли великого человека: Руссо - "руссоизм", Толстой - "фатализм", Есенин - "есенинщина" и т.д.
У мещанства мини-язык, мини-мысль, мини-чувство - все мини. И Родина для них - мини. И дружба народов - тоже. Только разлагатели национального духа народов могут не желать этой дружбы.
Мини торжествует. Посмотрите, что делается порою в нынешней критике - достаточно чихнуть, чтобы тем самым вызвать многомесячную дискуссию. Чих отвлекает - в этом, видимо, и его привлекательность. Но за этим чихом и другой расчет: можно, конечно, допустить самое невинное - любыми способами войти в "историю литературы", примазываясь к истории великого народа. Но наивно так думать. Отвлекусь и сам от разлагающей угрозы мини. Лучше вспомню знакомого (по рассказам земляков) стародавнего деревенского мужичонка по прозвищу Кадык. Выходил он из дому и спрашивал на народе свою жену:
"Мать, ты мясо-то вынула, погляди, не перепреет?" - "Кады-ык, мяса-то еще нету его".
Очень уж хотелось Кадыку похвалиться своим достатком, которого у него никогда не было. Не так ли и иные критики хотят больше "выдать", чем имеют за душой? Но ведь и то верно, что Кадык только в глазах самого себя мог быть богаче.
Если бы у этих мини была только бесхитростность Кадыка!
***
Вот, например, небезызвестный чеховский профессор Серебряков. Все-то свои годики "герр профессор" перегнал на ученые рассуждения о красоте, ровным счетом ничего не понимая в ней. Десятки лет театры и критики высмеивают этого бездарного профессора, все-то знают цену этой посредственности, этому приживальщику в науке, а ему хоть бы что - по-прежнему он заведует кафедрами, "с надменным видом" изрекает ученые пошлости, пишет никому не нужные "труды", величаво заседает, подписывает юбилейные "адреса" и т.д. Как говорит один герой у Бальзака: "Я посредственность, следовательно, я могу добиться всего, чего захочу". Серебряковы и в самом деле могут всего добиться, кроме одной лишь мелочи - оживить свою "ученость" хотя бы одним живым, творческим словом.
А моральная ценность этих светил? Увы, самого квелого сорта. При величавой-то осанке да душу бы "адекватную", как любят говорить эти ученые люди. Нет этого. Вот помните, как стоически переносил свои старческие недуги профессор Серебряков? Вот оно, это мужество в присутствии молодой жены нашего ученого:
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
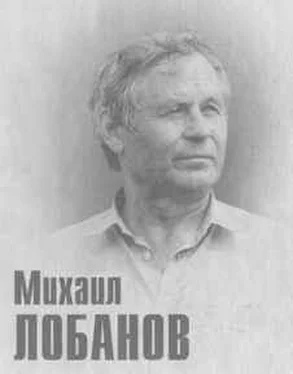
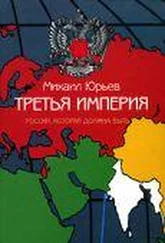
![Михаил Кисличкин - Комбат Империи зла [litres]](/books/28119/mihail-kislichkin-kombat-imperii-zla-litres-thumb.webp)