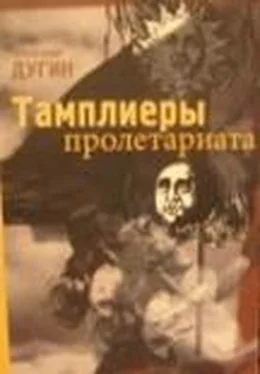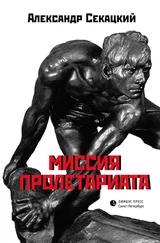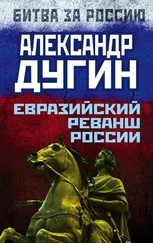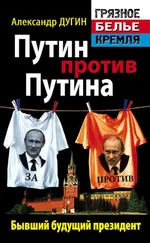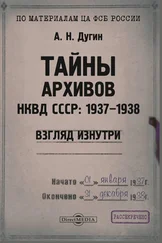Русский тип, предшествующий собственно национал-большевизму — это человек (народ, община, церковь) в поисках утраченного сакрального. Острое переживание этой утраты — становой хребет всей психологии и идеологии данного направления. Именно поэтому так легок был странный, на первый взгляд, переход русских интеллигентов от марксизма к православию, и наоборот.
Заметим, что на обратном полюсе от этого явления находился противопложный тип — человек истеблишмента, конформный носитель системы. Он воплощался во внешне православном и консерватином дворянине (чиновнике, служащем) с европейским воспитанием, но совершенно отделенным от жизни простого народа. При этом такой консервативный тип был вполне открыт для идей рыночных преобразований и буржуазных реформ. В конечном счете, и на этом конформистском полюсе тоже сочетались правые и левые элементы, только не революционного, а эволюционного толка — вялый патриотизм, совмещенный с частым пребыванием на Западе, внешние атрибуты сословности и терпимость к возвышению купечества и созданию буржуазных отношений. На психологическом уровне речь шла о типе, абсолютно глухом к сакральности, удовлетворенном профанической средой, в целом вполне соответствующем тогдашней общеевропейской культуре.
Именно между этими полюсами — национал-революционным (часто проявляющемся под масками интернационализма) и национал-консервативным (скрывающим в себе подлинный космополитизм) — и проходили силовые линии тайного противостояния, хотя сплошь и рядом сами активные участники идеологических дискуссий и политических движений не отдавали себе в этом отчета.
Октябрьская революция, по Агурскому, есть однозначная победа национал-революционного пласта русского общества, хотя, естественно, не все компоненты предшествующих этапов и формаций нашли в ней свое место. Марксистская догматика, принятая как единственная и безальтернативная, во многом повредила живому и творческому развитию основных и часто наиболее интересных тенденций в этом общем направлении.
Национал-большевизм в таком понимании становится неким общим знаменателем тех сил в русской культуре и русской политике, которые были фанатично ангажированы в поиск сакрального и которых, как средневековых гностиков, не устраивали внешние полые формы псевдорелигиозного и псевдодуховного конформизма. Это поиск утраченного сакрального и объясняет симпатию революционеров, интеллигентов, поэтов Серебряного века к ересям, староверческим толкам, народному быту, сохранившему многие аспекты древней культуры, где священными признавались все элементы бытия, а не только храмы и иконы. У образованного класса это выливалось в софиологические поиски или в "новое религиозное сознание" (Соловьев, Мережковский, о. Сергий Булгаков, Бердяев, Белый, Блок и т. д.); у выходцев из народной среды — в сектантство, ересь, бунт (Есенин, Клюев, Карпов, Клычков и т. д.) Но оба мира были тесно связаны между собой и оживлены единым "национал-большевистским" пафосом.
Агурский приходит к выводу: 74 года страна жила не при большевизме, а при национал-большевизме, хотя на каком-то этапе это перестали ясно осознавать даже вожди. Поразительно, что сам Агурский умер 21 августа 1991 в Москве, куда он приехал из Тель-Авива на "Конгресс соотечественников". Смерть этого блестящего историка точно совпала с концом того явления, внимательному и скрупулезному изучению которого он посвятил всю свою жизнь — с концом национал-большевистской империи.
3. Александр Эткинд: 4 особенности русского интеллигента
Совершенно самостоятельно и иными путями к сходным выводам пришел другой интереснейший исследователь того же периода Александр Эткинд. Он специализировался на изучении русского психоанализа начала века и пришел к весьма любопытным выводам.
В своей книге "Содом и Писхея" он подробно и в высшей степени остроумно описывает «теневые» моменты биографии некоторых видных деятелей Серебряного века — теневые не в смысле их «порочности», а в смысле их странности, непонятности, неизвестности и политической "некорректности".
Вывод Эткинда крайне интересен. — Большинство крупных фигур этой эпохи были буквально одержимы четырьмя постоянно повторяющимися мотивами, которые сам Эткинд косвенно возводит к однотипному психическому отклонению (что не так уж важно).
Первый мотив — зацикленность на проблеме пола. Причем эта проблема практически ни у кого из представителей Серебряного века не решается банальным образом, постоянно тяготея к радикальным и часто извращенным ситуациям. Они весьма разнообразны — menage a trois (классическими примерами которого являются чета Виардо и Тургенев; Мережковский, Гиппиус и Философов; Брики и Маяковский; Блок, Белый и жена Блока Менделеева и т. д.), гомоэротизм (Кузьмин, Брюсов, Цветаева, Радлова, Ахматова), оргиазм и ритуальные сборища у Вячеслава Иванова (с участием сектантов), женопоклонничество, мазохизм и одержимость девстевнностью у последователй Соловьева, теологизация пола у Розанова, мотивы садо-мазо у Гумилева, панэротизм Есенина и т. д. Даже если отбросить несколько упрощенное психоаналитическое толкование, совершенно очевидно, что тема пола является осью культуры Серебряного века. Причем не просто пол, но его глубинное, метафизическое измерение интересует поэтов и мыслителей этой эпохи, пронзительная интуиция его сакральной нагруженности, его таинственного послания, нуждающегося в осмыслении, раскрытии, реализации. Нелепо считать все это просто «отклонениями». Скорее это постановка вопроса о «норме» в духовном смысле — пол как вопрос, как драма, как важнейший момент духовной и национальной истории.
Читать дальше