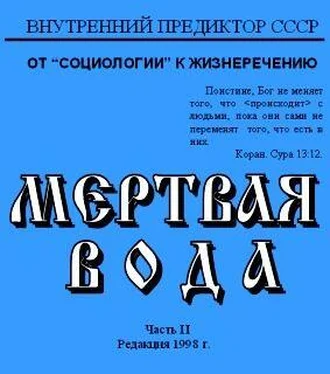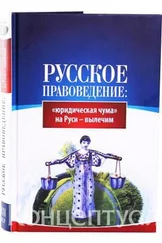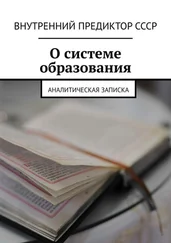То есть формально лексически это в целом тождественно мнению Кобаладзе: «Советский Союз развалило не ЦРУ. Мы сами его развалили», но смысл этого иерархически четырехуровневого [37] Уровни понимания разграничены в тексте различным набором: уровень четвертый — наиболее значимый понятийный уровень в этой взаимной вложенности. Кроме того понятийные слои могут быть упорядочены и в обратном порядке: от Божеского попущения — к краху СССР вследствие действий его политиков и населения.
высказывания всё же совсем иной, и весьма отличный от того, что имели в виду Кобаладзе и Денисов. Но в зависимости от того, на каком месте оборвать приведенное четырехуровневое выражение определенного понимания проблемы информационной безопасности, посчитав сказанное истинным, а отсеченное избыточным либо ложным, получится и информационная безопасность , но уже не как политический термин, а как объективный процесс в жизни общества и каких-то его подмножеств: политических партий, фирм, семей, личностей и т.п.
Но кроме этого, коли речь зашла об объективном процессе информационной безопасности, следует понимать, что крах СССР, как процесс, начался не 30 декабря 1922 года [38] Официальная дата учреждения Союза Советских Социалистических Республик.
, а гораздо раньше. То есть понимание иерархически четырехуровневого ранее приведенного выражения определенного мнения об информационной безопасности обусловлено еще и хронологической глубиной исторического мифа [39] Иными словами — рабочей концепции свершившейся истории, описывающей прошлые события и их оценку по отношению к способствованию или подавлению процессов, ведущих к осуществлению совокупности целей исторически долговременного управления.
, на основе которого осуществляется управление в обществе. Поскольку история всегда географически конкретна, то соответственно наивысший уровень информационной безопасности требует рассмотрения частной проблематики на фоне и во взаимосвязи с глобальным историческим процессом на возможно более длительном интервале исторического времени.
***
Студент сталкивается в вузе только с секретными тетрадями и книгами и, если его спросить, как он должен обращаться с ними, то он скажет только, что их нельзя выносить из зоны режима; некоторые еще скажут, что об их содержании нельзя говорить за пределами зоны режима секретности.
Приходя в НИИ и КБ, выпускник сталкивается с ведомственными приказами о режиме, приказом предприятия и редко с общегосударственной инструкцией о режиме секретности работ. Далее он видит что-нибудь из этого примерно раз в год при возобновлении подписки о том, что он все это «знает и обязуется соблюдать». В это же время он обнаруживает, что основная часть фактологии — мнимые секреты, известные потенциальному противнику, как это видно даже и не из спецхранной зарубежной литературы. С этого момента он относится к информационной безопасности как к «игре в секреты», соблюдая установленные правила формально, а неписаные традиции их нарушения фактически, поскольку иначе работать невозможно. При таких условиях информационная безопасность, естественно, обеспечена быть не может. Однако такая система режима секретности снижает скорость и качество научно-технических разработок. Это стало вполне очевидным в последние тридцать пять лет; было бы желание увидеть.
Курс же информационной безопасности позволил бы у большинства выработать, по крайней мере, осознанное отношение к тому, что разговоры на служебные темы вне зоны режима неуместны; что одинаково неуместно как собственное праздное любопытство, так и праздное любопытство окружающих, не имеющих доступа к той же или смежной тематике; что информационная безопасность строится на основе знания статистических закономерностей циркуляции информации в обществе, а подрывается циркуляцией в системе “секретности” личного доверия, в которой все действуют из лучших побуждений, но создают все вместе статистическую предопределенность утечки за рубеж информации через взаимную вложенность структур.
Только после того, как подавляющее большинство начнет осознавать, как секретная информация утекает за рубеж, и потому будет способствовать снижению меры статистической предопределенности этих утечек, обретет реальный смысл существующий ныне механизм учета и контроля за пользованием секретными источниками информации и контроль кадровой политики.
Читать дальше