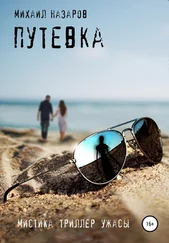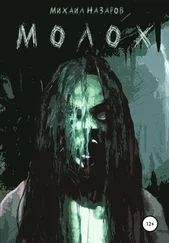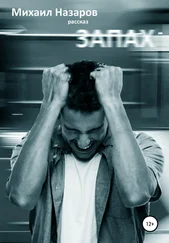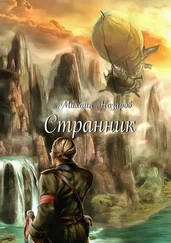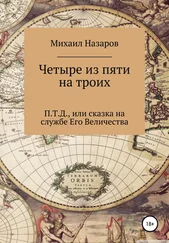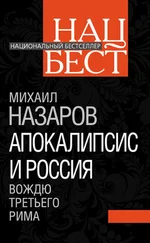Продолжение этой темы — как все произошло в действительности — см. в статье "Историософия смутного времени". [Прим. 1998 г.]
С тех пор статус украинского языка значительно укрепился. В 1906 г. Российская Академия признала его самостоятельным языком. В советское время его общественные функции расширились в «показательных» целях: на нем выходят книги, газеты, вещают радио и телевидение. Но, видимо, не следует удивляться тому, что за столь короткий исторический срок (вспомним и свидетельство Винниченко) украинский язык не смог утвердить свое культурное равноправие с русским. В этом виновата не столько советская власть (ведь, например, в Закавказье или в Прибалтике положение с родным языком иное), сколько все еще сохранившееся восприятие многими украинцами общерусского языка тоже как своего, имеющего иную социальную функцию. Потребность в русском языке, а не притеснение украинского, с одной стороны, и отсутствие интереса к своему этносу вследствие общего духовного снижения культуры в СССР, с другой, — в этом основные причины непопулярности украинских школ и популярности русской книжной продукции на Украине.
Еще более сложную ситуацию в Белоруссии описывает член оргкомитета Белорусского народного фронта А.И. Мальдис: "многие мои земляки по-прежнему называют свой язык не белорусским, а «простым», "тутэйшай мовай"…, считая к тому же, что "в городе… соромно говорить по-белорусски… Значит процесс формирования национального самосознания еще идет и будет идти долго, болезненно, в конфликтах" ("Согласие". Вильнюс. 1989. c. 3).
Русские могут способствовать укреплению украинского и белорусских языков, уважая их как общеславянское богатство. Но эта задача невыполнима сеянием ненависти к русским.
Поэтому русские, украинцы и белорусы подвержены в своей судьбе действию общего закона жизни и смерти (о котором сказано в предыдущей статье сборника), поскольку являются триединым народом (Назаров М. "Культура — христианская, славянская, православная. Русская идея и национальный вопрос" // «Вече». Мюнхен. 1989. с. 36). [Прим. 1998 г.]
К сожалению, в этой красивой метафоре Федотов не обнаруживает понимания историософского значения Москвы как Третьего Рима — преемника Второго Рима (Константинополя), о чем говорится в дальнейших статьях нашего сборника. Киев дорог нам именно тем, что тогда Русь стала религиозной частью Византии, знаменуя этим переходный этап от Второго Рима к самодержавному Третьему Риму, перенявшему духовную ответственность за судьбу всего мира. [Прим. 1998 г.]
Тут также необходимо уточнить, что античная культура Греции была как бы «дичком», общим для Запада и России, к которому было привито христианство. Откол западного (рационального) христианства от восточного (Православия) происходит в XI в. — одновременно с выходом России на арену европейской истории. Причем западноевропейская культура становится наследницей преимущественно рационального Первого Рима, а не гармоничной Греции, подлинным наследником которой стал Второй Рим и его преемник — Рим Третий. [Прим. 1998 г.]
Полный и комментированный перевод этой книги с приложениями и ее оценкой И.А. Ильиным см. в числе предыдущих выпусков серии "Русская идея". [Прим. 1998 г.]
Удивляющая многих и логически не объяснимая ненависть украинских сепаратистов к сторонникам единства с Россией (особенно проявившаяся у части галичан в период Второй мировой войны) — тоже явление иррациональное, понятное лишь в мистических категориях. Как и геноцид, проводившийся в период гитлеровской оккупации Югославии хорватскими усташами по отношению к говорившим на том же языке православным сербам (были зверски убиты сотни тысяч человек). [Не удивительно, что и в 1990-е гг. нового передела мира эта ненависть вспыхнула с новой силой. — Прим. 1998 г.]
Словенец, в годы Первой мировой войны был призван в австро-венгерскую армию, но перешел к русским; участник Белой армии ген. Корнилова; в 1930-е гг. эмигрировал и стал одним из руководителей НТС, возглавлял Комитет помощи русским беженцам в Западном Берлине, в 1954 г. был убит агентами КГБ при попытке похищения [Прим. 1992 г.]
Имеется в виду министр иностранных дел РСФСР А. Козырев, который 20 августа вылетел в Париж, чтобы "мобилизовать Запад на поддержку российскому руководству" ("Демократическая Россия", 23.8–4.9.91) [Прим. 1998 г.]
Читать дальше
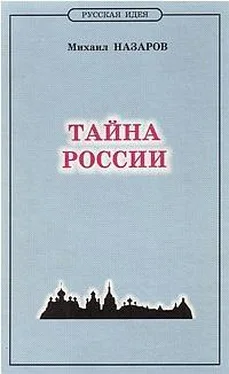

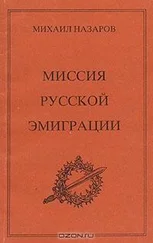
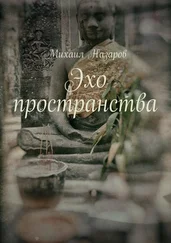
![Михаил Назаров - Дело о красном виноделе [litres самиздат]](/books/436875/mihail-nazarov-delo-o-krasnom-vinodele-litres-sam-thumb.webp)
![Михаил Назаров - Четыре из пяти на троих [litres самиздат]](/books/436876/mihail-nazarov-chetyre-iz-pyati-na-troih-litres-sam-thumb.webp)