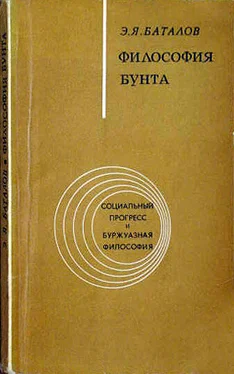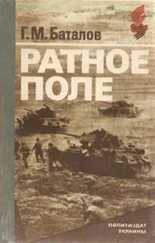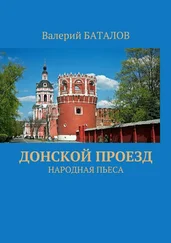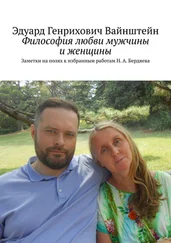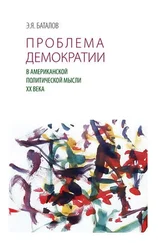В леворадикальных концепциях насилия находит выражение одна из характерных черт политического сознания «новых левых» – революционный романтизм и утопизм, вообще типичный для непролетарских антикапиталистических движений, особенно тех, основную массу участников которых составляет молодежь.
Это противоречивое явление. В нем – сплав революционной честности и авантюризма, героического самопожертвования и политической неискушенности, искреннего стремления немедленно устранить социальное и национальное угнетение и нигилистического отношения к огромному политическому опыту пролетариата, уверенности в способности революционера «сдвинуть горы» и нежелания вести длительную, повседневную, «черновую» революционную работу.
Отсюда и отношение марксистов к этому явлению. Как таковое оно совершенно непригодно в качестве стратегии и тактики революционной пролетарской партии, но в нем есть важный элемент того нравственного климата, в котором вызревают антиконформистские силы, а в известном смысле – изначальный этап, через который в свое время прошли многие из тех, кто впоследствии, преодолев первоначальные заблуждения, стал на революционные позиции рабочего класса и соединил высокий нравственный порыв и веру в способность человека «творить чудеса» с умением трезво учитывать обстановку и вести упорную, повседневную работу. «…Само собой разумеется, – говорил В. И. Ленин в беседе с Я. Фриисом, – мы не можем обойтись без романтики.
Лучше избыток ее, чем недостаток. Мы всегда симпатизировали революционным романтикам, даже когда были несогласны с ними. Например, мы всегда воздерживались от индивидуального террора. Но мы всегда выражали наше восхищение личным мужеством террористов и их готовностью на жертвы» [197]. Симпатизируя революционным романтикам, марксистский, пролетарский революционер вместе с тем далек от того, чтобы быть бунтарем, чтобы «под влиянием момента» подниматься на неподготовленную борьбу. Пролетарский революционер действует, соизмеряя свою борьбу с теми тенденциями, которые вызревают в недрах общественной истории. Его лозунг – не бунт, а социальная революция.
Политические выступления «новых левых» в конце 60-х годов не могли привести их к победе. Причину этого следует искать не столько в прочности буржуазной государственной машины, сколько в политической слабости «новых левых» (и прежде всего в отсутствии прочного блока «левого» студенчества и интеллигенции с крупнопромышленным пролетариатом и его авангардом – марксистско-ленинскими партиями), в их идейной незрелости.
Сегодня, когда в движениях протеста наблюдается заметный спад, а влияние прежних кумиров столь же заметно идет на убыль, все чаще раздаются голоса о «конце леворадикальной моды», о возвращении к «закону и порядку», о превращении «леворадикального феномена» в достояние истории.
Конечно, движение протеста в тех конкретных формах, которые были характерны для 60-х годов, может и не повториться. Но если рассматривать протест не как преходящую политическую моду или выражение «аномалии» нового поколения, а как проявление глубинных противоречий современного капиталистического общества, то, по-видимому, нет никаких оснований для вывода, что это движение полностью исчерпало себя. Социальные противоречия развитого капиталистического общества и порожденные ими проблемы остаются, значительные слои непролетарской массы продолжают сохранять в обществе свое «промежуточное» положение, тенденции к изменению характера и роли интеллектуального труда, связанные с научно-технической революцией, будут сохранять свою силу. А это значит, что сохраняется и объективная основа для новых «взрывов протеста».
Нельзя не учитывать при этом и то обстоятельство, что движение протеста 60-х годов вовсе не прошло бесследно. Оно оставило после себя определенное наследие, хотя и крайне противоречивое, но воплощавшее в себе некоторые положительные тенденции, заложенные в движении непролетарских масс в капиталистических странах, тенденции, которые могут быть использованы для объединения прогрессивных демократических сил в борьбе против власти капитала.
При рассмотрении движений протеста внутри капиталистического мира необходимо учитывать различие условий, существующих в отдельных странах: степень зрелости социальных отношений, соотношение классовых сил и его динамику, роль и влияние коммунистических и рабочих партий, а также характер исторических, политических и культурных традиций. К этому следует добавить, что реальный социальный эффект этих движений определяется не только леворадикальной фразой, под знаменем которой они развиваются, но и практическими действиями их участников, которые нередко приходят в противоречие с концепциями идеологов.
Читать дальше