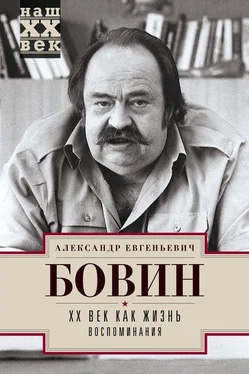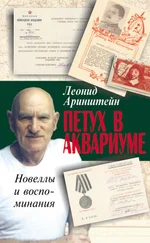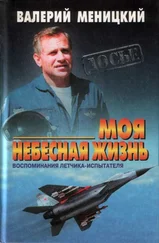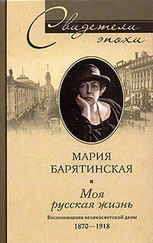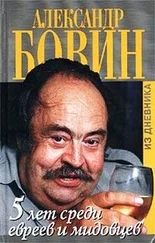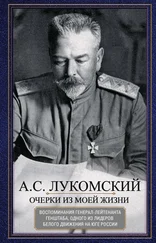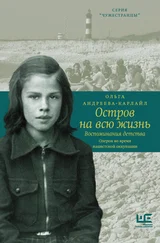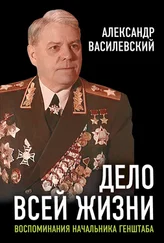Примеров сколько угодно.
Пропустили «сквозь строй» и ошельмовали великолепную, честную книгу А. М. Некрича «1941. 22 июня».
Вновь стали усердно перелицовывать, подгонять под «генералиссимуса» историю Великой Отечественной войны.
* * *
Приступили и к очередному переписыванию истории партии.
Секретарь ЦК КПСС Б. Н. Пономарев, который «курировал» подготовку учебного пособия по истории партии, попросил меня дать оценку проекту программы по курсу истории КПСС. Программа — это значит то, чему и как будут учить студентов.
Приведу несколько выдержек из моих «Замечаний» (они были переданы Пономареву 17 июля).
«Ныне принято говорить о „патриотическом воспитании на героическом прошлом“. Причем предполагается, что чем больше мы будем говорить о победах и меньше о поражениях, тем эффективнее будет такое воспитание. К сожалению, это — опасное заблуждение. Скептицизм, нигилизм, неверие в партийные лозунги и программы, — а такая „болезнь“ существует, особенно среди молодежи, — вызваны отнюдь не тем, что мы много говорили о теневых сторонах истории КПСС и мало о светлых. Указанная „болезнь“ вызвана иными причинами. Молодежь теряет доверие к нам, становится циничной и скептической, когда она видит разрыв между словом и делом, нежелание говорить правду, недоговорки и лицемерие, когда она видит, что каждое крупное изменение в руководстве ЦК КПСС ведет к существенному пересмотру курса истории партии, и каждый раз это делается под лозунгами „объективности“ и „научного подхода“.
Я вынужден высказать эти самые общие соображения, ибо именно они определяют мою отрицательную оценку проекта программы в целом. Этот документ — шаг назад от тех позиций, которые уже завоевала наша историческая наука. Преподавать такую историю КПСС — значит не воспитывать, а разлагать студентов, подрывать у них веру в партию, в ее возможности и желание правильно оценить пройденный путь во всей его сложности и противоречивости.
Основные пороки проекта программы концентрируются вокруг вопроса о роли и значении И. В. Сталина. На первый взгляд именно здесь авторы проекта демонстрируют свою объективность: вновь появилось имя Сталина, отмечаются его „недостатки“, в списке литературы фигурируют его работы. Однако это лишь видимость объективности… Под прикрытием „объективности“ в проекте по существу оправдывается вся деятельность И. В. Сталина».
Завершая анализ конкретных сюжетов, который занимает несколько страниц, я пишу: «Проект программы даже не пытается подойти к культу личности как к определенному социально-историческому явлению, общему для многих, если не для всех, социалистических стран. Не ставится вопрос о его причинах, о живучести его последствий, — а ведь без всего этого невозможно научное изучение истории КПСС».
Три заключительных вывода:
«1. С научной точки зрения проект программы по истории КПСС несостоятелен, ибо он искажает историю партии, умалчивает как раз о тех проблемах, которые в последние годы находились в центре внимания историко-партийной науки и всей советской общественности.
2. С политической точки зрения проект программы вреден, ибо он ставит под сомнение искренность и последовательность партии в ее борьбе за преодоление культа личности Сталина и его последствий и может породить неверие в способности и желание партии объективно оценить свою собственную историю.
3. Со всех точек зрения проект программы будет воспринят прогрессивной мировой общественностью (в том числе и у нас, и в большинстве компартий) как попытка возрождения „сталинизма“. Об этом, кстати, уже говорилось в ходе обсуждения проекта программы.
Кому это выгодно?»
Чем кончилось дело, не помню. Наверное, нашли какие-то половинчатые решения. В принципе в этом и заключалась «линия»…
* * *
Брежнев, как и Косыгин, только после октябрьского пленума плотно занялся международными делами. И прежде всего — обстановкой в мировой системе социализма. Полемика с китайцами перевернула многие привычные представления. Стали все очевиднее расхождения интересов внутри социалистического содружества. В ряде братских партий усилились националистические тенденции. Мы все чаще стали сталкиваться с критическим отношением к тем или иным акциям СССР, к политике КПСС. Обо всем этом отдел докладывал руководству. Насколько я мог видеть, Брежнев внимательно штудировал наши бумаги (точнее, те, которые преодолевали сито помощников). Для самообразования были очень полезны визиты в братские страны. Даже сквозь плотный протокольный занавес всегда — при желании — можно было разглядеть что-то интересное. Много давали и беседы с коллегами, которые посещали Москву довольно часто.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу