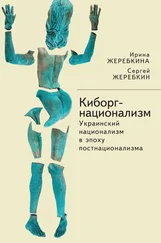Чаттерджи иногда пишет так, словно развитие идеи «нации» в западной мысли оставалось более тесно связанным с областью специфически политического дискурса, чем это было на самом деле. Так, он утверждает, что «вытеснение в современной европейской социальной теории независимого нарратива сообщества… делает возможным как проведение различия между государством и гражданским обществом, так и стирание этого различия» ( Chatterjee 1994: 283). Однако это слишком большое обобщение, поскольку нарратив сообщества получил широкое распространение и стал необходимой составляющей европейской социальной теории. Но до недавнего появления «коммунитаризма» в этом как раз и состояло основное отличие социальной теории от теории политической, особенно в англоязычной литературе. Политическая теория часто оставляла без внимания сообщества, отличные от нации (общего сообщества), описывая вместо этого отношения между индивидами и государствами. В политической теории не было сколько-нибудь серьезного описания социальной интеграции, не связанной с государством; это сделало возможным недавнее «повторное открытие» гражданского общества как темы либеральной политической теории (см., например: Коэн и Арато 2003).
О схожих проблемах в контексте того же международного движения «негритюда», хотя и со значительно менее критичным взглядом на гендер и патриархальность см.: Cesaire (1955).
Как показывает Чаттерджи ( Chatterjee 1994), термин джати мог быть мобилизован для подчеркивания индийского или индуистского как основного «вида», в который входила личность, а не только специфические и иерархически организованные категории, связываемые с термином «каста». Каста сама по себе во многом кажется категориальной идентичностью, частью классификационной схемы, которая рассматривает индивидов дискретно. Индия, таким образом, не была такой «чуждой» западным вариантам категориальных идентичностей и индивидов, как иногда говорят. В то же время многие западные наблюдатели искажают действительные практики, когда они подходят к касте так, словно она является единственной схемой классификации, холистически интегрированной на общеиндийском уровне (они, сами того не замечая, привносят националистическое сознание). Каста должна также отсылать ко множеству местных практик и объединений, гораздо более относительных (родство) и менее четко интегрированных в надлокальную, национальную схему классификации, чем принято обычно считать. (Я признателен Ли Шлезингер за обсуждение этой идеи и возможность прочесть неопубликованные работы.)
Хотя капитализм и был причиной такой внутренней интеграции и поддержания границ, он не навязывал себя ни в национальной форме, ни в виде какой-то определенной нации. «Расширение торгового обмена не способно объяснить создание современной нации; хотя оно показывает необходимость объединения так называемого внутреннего рынка и устранения препятствий для обращения товаров и капитала, оно ни в коей мере не объясняет, почему это объединение происходит именно на уровне нации » ( Poulantzas 1980: 105–106).
Возможно, одно из наиболее заметных проявлений такой опеки имело место в коммунистическом мире, где Советский Союз серьезно ограничивал действительный суверенитет восточноевропейских государств (не говоря уже о республиках, входивших в состав СССР), но при этом притворно заявлял об их независимости. Соединенные Штаты поддерживали подобные отношения с Филиппинами и некоторыми другими государствами в своей «сфере влияния». Кроме того, открытым остается вопрос о том, является ли Пуэрто-Рико национальным государством (и должно ли оно им стать) или же его статус в Соединенных Штатах следует «нормализовать», превратив его в один из штатов.
О роли националистического ressentiment в Центральной и Восточной Европе см.: Greenfeld (1992); применительно к Германии см.: Eley (1980: Ch. 5). Арабский и исламский национализм точно также был движим чувством обиды, нанесенной сильными государствами ( Farah 1987; Tibi 1990; Anderson et al. 1991; Балибар и Валлерстайн 2004).
Неясно, существуют ли вообще объективные пределы количества жизнеспособных государств, о которых говорит Геллнер. Если да, то они явно не достигнуты.
Холл говорил о возможности «очерчивания различных идеальных типов национализма» ( Hall 1993: 1), но тогда открытым оставался вопрос о том, на каком основании эти «идеальные типы» могли считаться идеальными типами именно национализма .
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
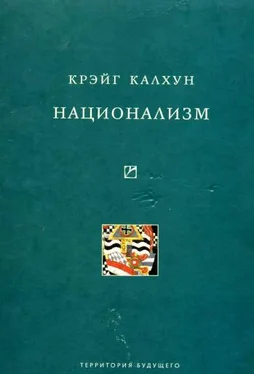
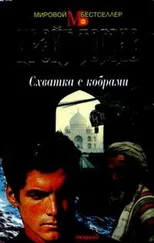

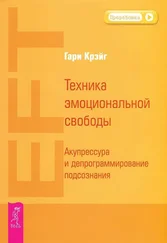
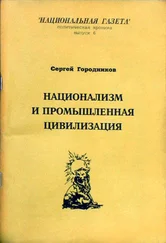



![Крэйг С Залер - Духи рваной земли [litres]](/books/419437/krejg-s-zaler-duhi-rvanoj-zemli-litres-thumb.webp)