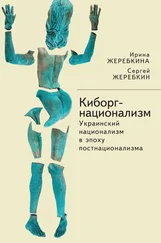Идея Майкла Хектера ( Hechter 1975) о роли, которую сыграло сочетание внутреннего колониализма с экономической отсталостью в возникновении национализма на «кельтской периферии» Британии, кажется вполне убедительной в том, что касается факторов, рассматриваемых теорией мобилизации ресурсов, и более убедительной в том, что касается объяснения причин того, почему национализм стал привилегированной риторикой для выражения недовольства и формулирования целей и требований. Последний вопрос необходимо рассматривать с точки зрения исторического конструирования и распространения дискурса национализма и его воплощения как в британском государстве с доминированием Англии, так и в других местах.
Социальные движения никогда не возникают в изоляции. Исследования, посвященные только одному движению — классовому, религиозному, националистическому, гендерному или иному, упускают связь каждого движения со всем полем движений; см.: Calhoun (1993a). Тактика определяется примером и участием индивидов в нескольких движениях — одновременно или с течением времени. Само существование множества движений, несмотря на, возможно, скромные успехи, способствует распространению идеи о том, что коллективное действие вполне может изменить мир и не обязательно сталкивается с репрессиями. Это «когнитивное освобождение» чрезвычайно важно для социальных движений в целом (см.: McAdam 1982, 1986).
Сожалея о таком отношении к национализму — и этничности в целом — как к особому случаю или второстепенному фактору в мировой истории, Дэниел Патрик Мойнихан ( Moynihan 1993: 10–11) пишет: «Сегодня на Земле есть всего восемь государств, которые существовали в 1914 году и с тех пор не пережили насильственного изменения формы правления. Ими являются Великобритания, четыре нынешних или бывших члена Содружества наций, Соединенные Штаты, Швеция и Швейцария. Из остальных 170 или около того современных государств одни были созданы совсем недавно, чтобы они могли хорошо познакомиться со всеми предшествующими „прелестями“, но при создании большинства других наиболее важную роль сыграл этнический конфликт. И все же можно изучать международные отношения на протяжении всего XX столетия, старательно не замечая этого».
Эрика Беннер ( Benner 1995) предложила убедительное развитие идей Маркса и Энгельса, которое показывает, каким мог бы быть их анализ национализма, если бы они уделили ему должное внимание. Более широкий обзор марксистских подходов см.: Nimni (1991).
Термин «примордиальный» был введен в оборот Эдвардом Шилзом (см. особ.: Shils 1957).
См. также: Davidson (1992). Как заметил Эке ( Ekeh 1990), в социальной антропологии и исследованиях Африки постепенно термин «племя» был заменен «этнической группой». Если понятие племени акцентировало внимание на важности родственных отношений (которые, как утверждает Эке, играли все более важную роль вследствие слабости африканских государств, с позиций которых критиковался «трайбализм»), то введение понятия этнической группы делало неуместным детальное и серьезное изучение родства. Это привело к навязыванию категориального понятия — совокупность индивидов, обладающих общей этничностью — вместо относительного.
Тревор-Рупер ( Trevor-Roper 1983) показывает, что даже такой важный символ национальной идентичности, как шотландский килт, во многом был предметом реконструкции и изобретения в контексте шотландского сопротивления английскому господству; он получил широкое распространение только в начале XVIII века.
Андерсон ( Андерсон 2001: 31) обнаруживает тот же недостаток и у Геллнера: «Геллнер настолько озабочен тем, чтобы показать, что национализм прикрывается маской фальшивых претензий, что приравнивает „изобретение“ к „фабрикации“ и „фальшивости“, а не к „воображению“ и „творению“».
Это социологическое суждение восходит к теореме У. А. Томаса, согласно которой то, что мы считаем истинным, является истинным для нас (см. развитие этой идеи в кн.: Мертон 2006). В исследованиях Пьера Бурдье ( Бурдье 2001), посвященных воспроизводству культуры как когнитивного содержания и как додискурсивного, материального отношения к миру, дано более глубокое теоретическое обоснование этой идеи. Как утверждал Эдвард Шилз ( Shils 1981), традицию следует считать не просто относительно устоявшимся содержанием культуры, а активным процессом «развития». См. также: Calhoun (1983).
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
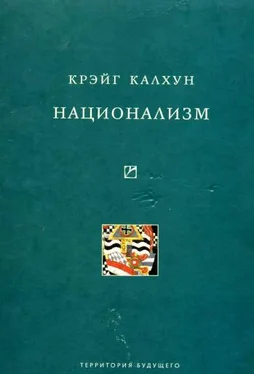
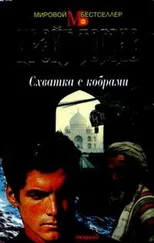

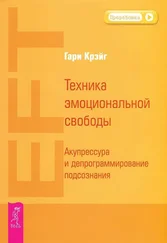
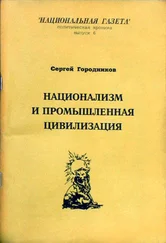



![Крэйг С Залер - Духи рваной земли [litres]](/books/419437/krejg-s-zaler-duhi-rvanoj-zemli-litres-thumb.webp)