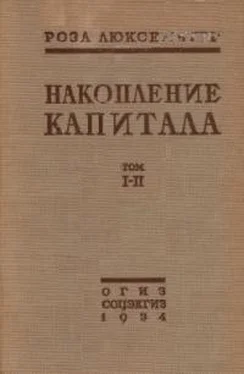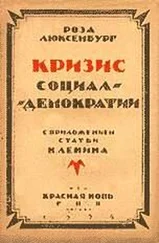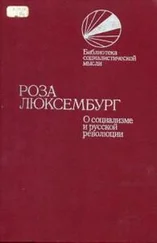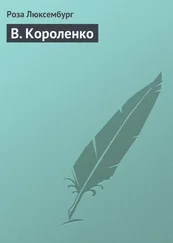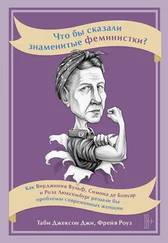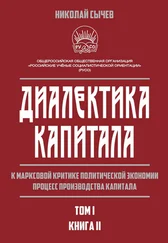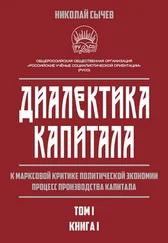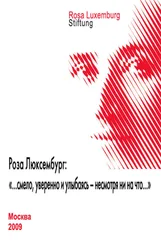Впрочем оставшиеся в живых вожди народнического пессимизма, особенно г-н В. Воронцов, до конца остались верными своей теории, несмотря на все, что за это время произошло в России, — факт, который делает честь не столько их уму, сколько их характеру. В 1902 году г-н В. В., ссылаясь на кризис 1900–1902 гг., писал: «Догматическое учение неомарксизма быстро теряет власть над умами, а беспочвенность новейших успехов индустриализма сделалась, повидимому, совершенно очевидной даже для официальных его апологетов… В первом десятилетии XX века мы возвращаемся таким образом к той самой постановке вопроса экономического развития России, какая была завещана своим приемникам поколением семидесятых годов прошлого столетия». (См. «Народное хозяйство», октябрь 1902 г. Цитировано у А. Финн-Енотаевского, «Современное хозяйство-России (1890–1910 гг.)». СПБ. 1912 г., стр. 2).
Итак, вместо того, чтобы говорить о «беспочвенности» своей собственной теории, последние могикане народничества еще теперь говорят о «беспочвенности» экономической действительности, — живое опровержение слов Барера; «il n'y a que les merts qui ne reviennent pas».
«Критические заметки» и т. д., стр. 251.
L. с., стр. 255.
L. с., стр. 252.
L. с., стр. 260. «…Струве решительно неправ, когда он сравнивает положение России с положением Соединенных штатов с целью опровергнуть то, что он называет пессимистическим взглядом на будущее. Он говорит, что бедственные последствия новейшего капитализма России будут побеждены с такой же легкостью, как в Соединенных штатах. Он совершенно забывает при этом, что Соединенные штаты представляют новое буржуазное государство с самого своего начала; что они были основаны мелкими буржуа и крестьянами, бежавшими от европейского феодализма с целью установить чистобуржуазное общество. Тогда как в России мы имеем основной фундамент первобытно-коммунистического характера, так сказать, предшествующее цивилизации родовое общество — правда рассыпающееся теперь в прах, но все еще служащее тем фундаментом, тем материалом, над которым оперирует и действует капиталистическая революция (потому что это — действительно социальная революция). В Америке денежное хозяйство установилось вполне более столетия тому назад, тогда как в России натуральное хозяйство было еще недавно чуть не общим правилом почти без всякого исключения. Поэтому всякому должно быть ясно, что в России занимающая нас перемена должна иметь гораздо более насильственный и резкий характер и сопровождаться несравненно большими страданиями, чем в Америке». Письмо Энгельса Николаю-ону от 17 октября 1893 г. «Письма» и т. д., стр. 85.
L. с., стр. 284.
Реакционная сторона теории немецких профессоров о «трех великих державах» — Великобритании, России и Соединенных штатах — ярче всего проявляется у проф. Шмоллера в его столетнем обзоре торговой политики, где он с грустью покачивает своею седою ученою головою по поводу «неомеркантилистских», — он хочет сказать — империалистских, — вожделений этих трех главных злодеев, и где он, во имя «успехов высшей, духовной, нравственной и эстетической культуры и социального прогресса», требует сильного германского флота и европейского таможенного союза с острием, направленным против Англии и Америки:
«Из этого всемирнохозяйственного напряжения для Германии в виде первой обязанности вытекает необходимость создания сильного флота, чтобы мировые державы в случае войны добивались ее союзничества. Германия не может и не должна вести завоевательной политики, как эти три мировые державы (которым г-н Шмоллер не хочет однако, — как он выражается в другом месте, — делать „упреков в том, что они опять стали на путь колоссальных завоеваний колоний“), но она должна обладать возможностью сломить чужую блокаду Северного моря, защитить свои колонии и свою огромную торговлю и дать такие же гарантий государствам, которые находятся с нею в союзе. Объединенные в тройственный союз Германия, Австро-Венгрия и Италия имеют общую задачу с Францией: обуздать агрессивную политику трех мировых держав, — политику, угрожающую всем средним государствам; это желательно в интересах политического равновесия и в интересах сохранения всех прочих государств. Мы имеем в виду в особенности обуздание завоеваний, приобретения колоний, чрезмерного напряжения односторонней таможенной политики, эксплоатации и насилия над всеми слабейшими… Успехи высшей, духовной, нравственной и эстетической культуры и всякого социального прогресса тоже требуют, чтобы вся земля к концу XX века не оказалась поделенной между тремя мировыми державами и чтобы они не создали брутального неомеркантилизма». («Die Wandlungen in der europaischen Handelspolitik des XIX Jahrhunderst». Jahrbuch fur Oesetzgebung unb Verwaltung und Volkswirtschaft. XXIV, стр. 381).
Читать дальше