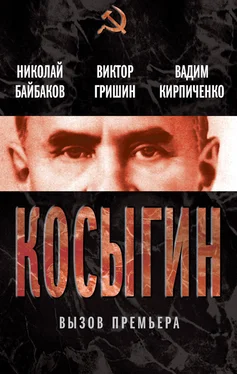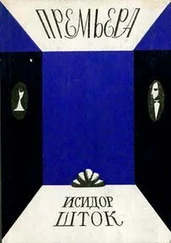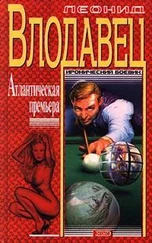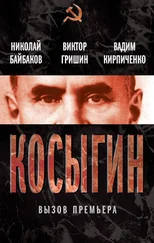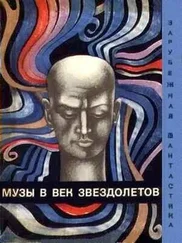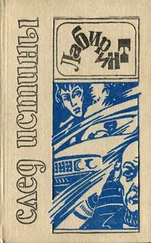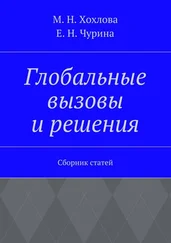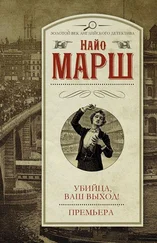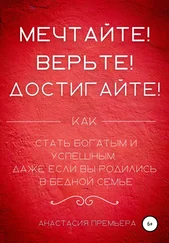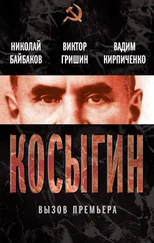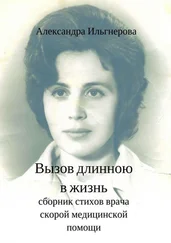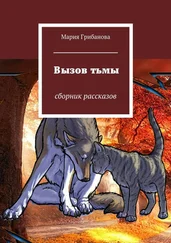Место, приглянувшееся нам, в то время было неухоженным, да и прилегающий участок стены требовал реставрации. В самом центре площадки располагался обелиск, поставленный здесь в 1913 г. в связи с 300-летием дома Романовых. После революции с него сняли двуглавого орла, а на гранях обелиска вместо перечня российских императоров выбили имена великих революционных мыслителей, названных якобы лично В.И. Лениным.
В то время считалось, что трогать обелиск нельзя. И все же так много было «за», что мы пришли к единому мнению – именно здесь следует соорудить мемориал. Тогда же обсудили и общую идею памятника.
Уже на следующий день оба архитектора пришли в горком партии и принесли эскизы будущего мемориала. На них памятник выглядел почти так же, как мы видим его сегодня. В тот же день я посетил Алексея Николаевича и показал эти эскизы. Они ему понравились, и он обещал оказать всяческое содействие в сооружении памятника. А надо сказать, что Л.И. Брежнева в Москве в то время не было. Я направил короткую записку в ЦК, в которой просил дать согласие на сооружение в Москве памятника – Могилы Неизвестного солдата.
Вскоре вернулся Брежнев. Ознакомившись с предложением, он долго сомневался, надо ли вообще это делать. Но аргументы были настолько весомыми, что в конце концов он отступил. Однако в отношении места памятника и его проекта был непреклонен. «Нет! – и все тут. – Ищите другой вариант». Во время моего весьма непростого разговора с ним стало понятно, что возражает он лишь потому, что первым, кому показали эскиз, был Косыгин. Это обидело Леонида Ильича, задело его самолюбие. И он, очевидно, решил проучить нас. Неопределенное положение длилось полгода. А дело стояло, надвигалась зима. Тогда мы решились на небольшую хитрость.
6 ноября, после торжественного заседания, посвященного очередной годовщине Октября, архитекторы принесли эскизы и макет памятника в комнату президиума. В перерыве перед концертом я пригласил Брежнева, членов Политбюро, других товарищей, находившихся в президиуме, познакомиться с нашими предложениями. Все единодушно выразили свое одобрение. Тут уж Брежневу ничего не оставалось, как согласиться. Маленькая «война» была нами выиграна. Но труднейшие работы, в том числе по перекладке коллектора реки Неглинной, переносу на другое место обелиска, реставрации стены, пришлось выполнять в максимально сжатые сроки, всего за полгода, притом в условиях суровой зимы.
3 декабря 1966 г. сотни тысяч людей вышли на улицы города, когда по ним двигалась траурная процессия, доставившая останки неизвестного солдата, погибшего четверть века назад на ближних подступах к столице, в районе нынешнего Зеленограда.
С воинскими почестями останки были захоронены у Кремлевской стены, а 8 мая 1967 г. мемориал был торжественно открыт и на Могиле Неизвестного солдата зажжен Вечный огонь славы. Сегодня мало кто знает подробности истории, предшествовавшей сооружению этого священного памятника.
* * *
Став Председателем Совета Министров СССР, Алексей Николаевич активно взялся за дела. По прошествии многих лет можно что-то оценивать положительно, с чем-то не соглашаться, но одно бесспорно – он стремился оживить экономику, устранить волюнтаризм в руководстве народным хозяйством, характерный для последних двух лет деятельности Н. С. Хрущева, добиться повышения уровня жизни людей. В отличие от Брежнева, Алексей Николаевич опирался в работе не на лично преданных ему людей, а на отлично знающих свое дело руководителей, таких, как Н.К. Байбаков, В.Э. Дымшиц, В.А. Кириллин, В.Н. Новиков, В.Ф. Гарбузов, Н.С. Патоличев и др.
Известно, что А.Н. Косыгин с самого начала неодобрительно относился к созданию совнархозов, хотя открыто и не высказывался по этому поводу. В печати, на пленумах ЦК и сессиях Верховного Совета СССР еще при Хрущеве стали критиковать совнархозы. Считалось, что они не в состоянии проводить единую техническую политику, что серьезный урон народному хозяйству наносит местничество. Особое недовольство высказывали те региональные руководители, которые были не в состоянии оказывать прямое влияние на деятельность совнархозов, в ведении которых после ряда укрупнений находилось несколько областей.
А вот Московский городской совнархоз работал хорошо. Здесь активно обновлялись основные фонды, осваивались новые виды сложной продукции, повышалось качество изделий, улучшались условия труда и его эффективность. Все предприятия выполняли планы. Рост объемов производства достигал более 7 % в год. Городское хозяйство Москвы, транспорт, строительные организации и промышленность составляли как бы единый экономический комплекс, что позволяло успешно решать производственно-технические и чисто городские проблемы.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу