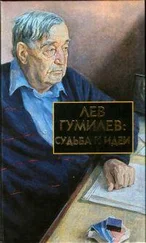Между тем сама европейская наука, бессильная, конечно, дать нашим ученым то, чего у ней самой нет, вполне могла указать им путь для отыскания более обильных источников, способных уяснить нашу власть. «В политических актах как государственной власти, так и народа, — объясняет еще Блюнчли, — юридическое сознание многоразлично обнаруживается и не высказываясь в форме закона. Если дух, проявившийся в них, окреп, освящен преданием, то на него уже наложена печать правомерности». Он уже составляет «национальное право». Блюнчли напоминает, что таким путем выросли и «важнейшие учреждения и начала права» у римлян, и средневековое государственное право, и само английское государственное право… Другими словами, это есть нормальный путь роста государственного сознания и права.
Не один «писанный закон» или «доктрина» составляют основу политического творчества, а вся жизнь и сознание народа. Вот источник политической жизни. Его наблюдение есть задача науки, его сохранение есть задача, достойная осмысленной практической деятельности. К сожалению, понимание этой простой истины давалось лишь с величайшим трудом в период нашего умственного порабощения Европе, хотя инстинктивно все развитие нашего политического самосознания двигалось именно этим путем.
Наряду со страстным увлечением всем европейским у нас уже в XVIII веке пробудилось ощущение чего-то своего, особенного или, по крайней мере, собственного. Уже в XVIII веке является изучение русской истории, народных песен, былин и т. п. Начав с изучения народного, у нас через этот элемент уже в конце XVIII века стали приходить к пониманию Православия, а через это последнее постепенно начинали понимать и нашу политическую идею. Это был общий путь развития национального самосознания русского образованного слоя. Им и доселе обыкновенно проходят отдельные личности, которые от либерального космополитизма приходят к русскому историческому мировоззрению. Понимание социально-политической идеи дается, таким образом, лишь на последнем месте, и этим, без сомнения, объясняются малые успехи, которыми отличается наше политическое и общественное сознание.
Однако эти успехи у нас все-таки замечаются. Строго говоря, современные ученые наши поднялись уже выше А. Градовского.
Б. Чичерин, например, определяя Самодержавие (Монарха), говорит, что он «держит власть независимо от кого бы то ни было, не как уполномоченный, а по собственному праву» [44] Чичерин Б. Н. Курс государственной науки. Ч. 1. — Стр. 134.
. Это, во всяком случае, несравненно яснее, хотя и остается желательным узнать, откуда же происходит это «собственное право». Определения Романовича-Славатинского еще более любопытны. «Власть Русского Царя, — говорит он, — есть самодержавная, то есть самородная, не полученная извне, не дарованная другой властью. Основанием этой власти служит не какой-либо юридический акт, а все историческое прошлое русского народа» [45] Романович-Славатинский А. В. Система русского государственного права в его историко-догматическом развитии, сравнительно с государственным правом Западной Европы. — Стр. 193–194.
. «Подобно тому, как самоцветный камень имеет свой собственный, ему присущий, а не извне полученный цвет и блеск, так и самодержавная власть имеет свои собственные, ей присущие, а не извне полученные права», — продолжает профессор и еще поясняет: самодержавие «воплощает самость и державные права русской нации, которые она получила не извне, но выработала потом и кровью многовекового исторического прогресса» (стр. 77).
В этих цветистых, но поэтических определениях чувствуется много правды. Но опять является тот же вопрос: почему же «права русской нации» воплощает «не русская нация», а именно «монарх»? Как Б. Чичерин, так и Романович-Славатинский объясняют нам, в сущности, не Самодержавие Монарха, а самодержавность вообще. Это прекрасно, но самодержавность есть свойство вообще всякой Верховной власти. Должно, однако, быть что-либо отличающее Верховную власть демократии и Монарха? Романович-Славатинский в своих определениях то говорит, что Монарх воплощает власть, в сущности, народную, то делает его совершенно беспричинным обладателем власти, как самоцветный камень обладает самоцветностью. В первом случае, мы невольно думаем, что, стало быть, монархическая власть, в сущности, есть делегированная, хотя бы и помимо юридических актов. Во-втором, нельзя не испытывать недоумения: почему такая «самоцветность»? Чем она обуславливается?
Читать дальше